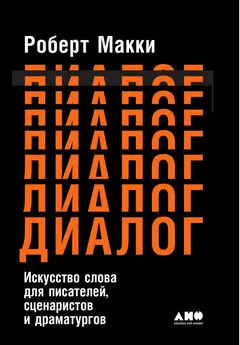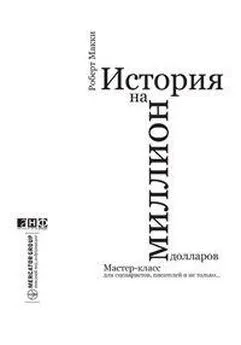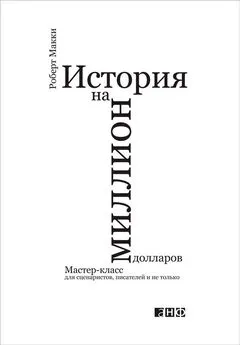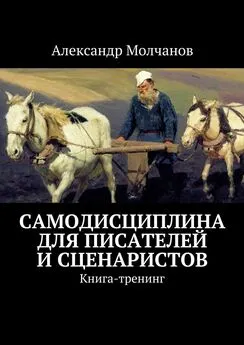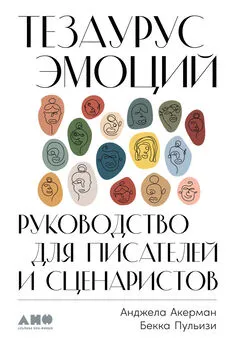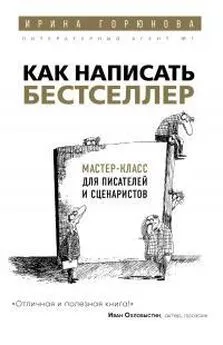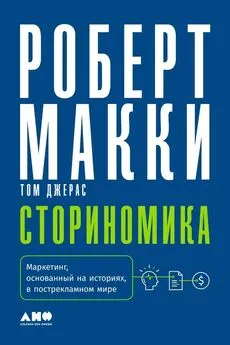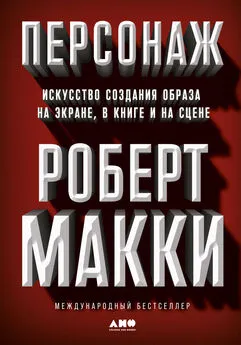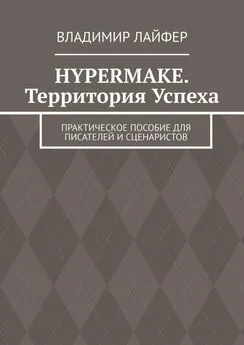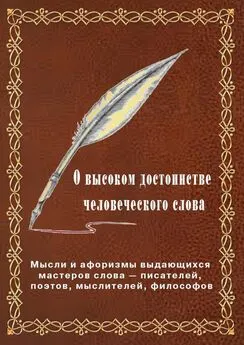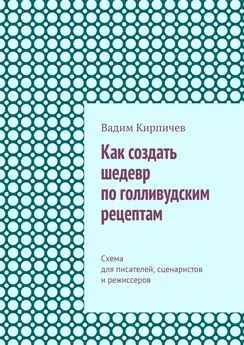Роберт Макки - Диалог: Искусство слова для писателей, сценаристов и драматургов
- Название:Диалог: Искусство слова для писателей, сценаристов и драматургов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Альпина нон-фикшн
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9614-5196-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Роберт Макки - Диалог: Искусство слова для писателей, сценаристов и драматургов краткое содержание
Вы узнаете, как, вложив слова в уста героев, сделать их живыми, наделить голосами, за которыми зритель и читатель будут следовать неотступно, научитесь искусству соединять «две безмолвные области: внутреннюю жизнь героя и внутреннюю жизнь читателя-зрителя». Это учебник-исследование, в котором рассмотрены как наиболее действенные техники «диалогового письма», так и ошибки, подстерегающие автора в процессе работы, в том числе клише, многословие и неправдоподобие. Если вы только начинаете свои литературные опыты, книга укажет вам путь к мастерству; профессиональному же писателю она поможет сделать важный шаг к совершенству.
Диалог: Искусство слова для писателей, сценаристов и драматургов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Наука не может отнести сознательное к области сугубо физического, а философия не может поместить его в одно лишь метафизическое, но вот художники точно знают, где искать «Я». Стоит искусству «свистнуть», «Я» тут же бежит, как верная собака. Для того, кто рассказывает историю, «Я» обитает в тех местах, где ему всегда было привольно.
Именно осознание самого себя и делает каждого из нас человеком. Философия учит: ненадежное «Я» меняется день ото дня, а следовательно, непознаваемо до конца — ну и что? Это меняется мое «Я», и мне нравится смотреть, как оно развивается, хочется надеяться, в лучшую сторону.
Для авторов, стремящихся выразить внутреннюю жизнь, дедукция философии и индукция науки представляются скучными изысканиями. Ни та ни другая не использует мощь вышедшего наружу субъективного; ни та ни другая не создает значимого эмоционального опыта.
История не отвечает на «трудный вопрос», она драматизирует его.
Я думаю, лучше и проще всего подойти к созданию внутреннего диалога так: взгляните на разум вашего героя как на сцену или мир, где живут герои. Пусть этот воображаемый ландшафт простирается перед вами, как городской или сельский пейзаж, как поле битвы, став мысленной мизансценой. Потом сами переместитесь в эту историю и проникните глубоко в сознание своего главного героя. Глядя оттуда, создавайте внутренние диалоги, которые в драматической форме дают ответ на вопрос: «Каково это — быть этим конкретным человеком?»
Возвращаемся к вопросу, поставленному в самом начале: когда герой говорит сам с собой, кто его слушает, кроме читателя? С кем он говорит? Отвечаем: с безмолвным «Я». Когда мы слышим, как герой говорит с собой, мы чувствуем, что то, другое, безмолвное «Я» внимательно слушает. Можно достаточно уверенно сказать: мы чувствуем это так сильно, что никогда об этом не задумываемся. Да это и не нужно — мы знаем, что постоянно ведем беседу со своим личным, безмолвным «Я».
По-моему, в уме каждого человека его отдельная, безмолвная часть тихо сидит и смотрит, слушает, оценивает, сохраняет воспоминания. Если вы медитируете, то хорошо знакомы с этим внутренним «Я». Оно, если можно так выразиться, обтекает вас, следит за всем, что вы делаете, не исключая и мыслей. Нельзя внутри себя оказаться лицом к лицу с самим собой, но вы всегда знаете, что ваше безмолвное «Я» здесь, бдит.
Так как внутренние диалоги в прозе совершают цикл от говорящего «Я» к безмолвному «Я», они порождают эффект отражения.
Отражающий конфликт
В естественных науках под отражением понимается круговое или двунаправленное взаимоотношение между причиной и следствием. Действие вызывает противодействие, которое влияет на действие так стремительно, что оба, кажется, происходят одномоментно. Действие и противодействие, соединившись, закручиваются, как в водовороте. Причина становится следствием, следствие — причиной, и ни одно нельзя четко отличить от другого.
В общественных науках отражение сигнализирует о некоей созависимости между людьми, а также внутри групп, институтов, обществ. Как только начинает раскручиваться спираль отражения, ни о действии, ни о противодействии нельзя точно сказать, что вот это — причина, а вот это — следствие. Они настолько сильно влияют друг на друга, что кажутся происходящими одновременно, так что не нужно не только ничего решать, но даже и думать.
В искусстве истории отражающий конфликтсоотносится с внутренними битвами, которые разгораются, когда усилия, с которыми герой старается разрешить внутреннюю дилемму, возвращаются ему бумерангом. Возникает ощущение внутреннего тупика, и попытки разрешить кризис становятся причиной, которая все только ухудшает. Противоречия с самим собой порождают все более сложные и запутанные источники антагонизмов, так как причины становятся следствиями, а следствия — причинами, и до тех пор, пока сам конфликт не станет причиной, его нельзя разрешить.
Отражающий конфликт переходит в диалог тогда, когда начинается разговор взволнованного героя с самим собой. Как я указал в главе 1, сама природа разума позволяет ему отступать на шаг назад, чтобы наблюдать за собой как за объектом. Человек на время «раздваивается», развивая отношения, часто критически важные, между глубинным «Я» и другими сторонами или аспектами личности. Он может защитить образы своего прошлого «Я», непривлекательного «Я», лучшего «Я», будущего «Я». Он может ощущать свое сознательное, подсознательное, а главным образом — безмолвное, слушающее «Я».
Такие взаимоотношения бывают и бесконфликтными, например, когда мы успокаиваем себя извинениями, самообманом или перекладыванием вины на других. Но куда чаще наши внутренние «Я» занимают прямо противоположные позиции в борьбе за выбор, за правильный поступок, самопожертвование, контроль беспокойного «Я», в общем, за любые бурные перипетии внутренней жизни [67] Jurgen Ruesch and Gregory Bateson, Communication: The Social Matrix of Psychiatry (New York: W. W. Norton & Co, 1987). — Прим. авт.
.
Отражающие конфликты могут разыгрываться непосредственно в настоящем времени или передаваться косвенно, через прошедшее время. На сцене и на экране герой может передавать первое в монологе, а второе — либо в диалоге с другим героем, либо в прямом обращении к слушателю. На странице главный герой может говорить со своим вторым «Я» и разыгрывать внутренние конфликты в настоящем времени («Барышня Эльза») либо говорить с читателем и описывать более ранние эпизоды отражающего конфликта в прошедшем времени («Музей невинности»).
«Барышня Эльза»
Артур Шницлер, австрийский прозаик и драматург, много экспериментировал с приемом «потока сознания», начиная с рассказа 1901 года «Лейтенант Густль». В новелле 1924 года «Барышня Эльза» он пригласил читателя подслушать беспокойные мысли героини, именем которой названо произведение, написанное исключительно в виде внутреннего диалога от первого лица.
Эльза, 19-летняя красавица из венского высшего общества, отдыхает со своей тетей на горном курорте, где получает письмо от матери и узнает, что ее отец, юрист, был пойман на краже крупной суммы денег со счета своего клиента. Если через два дня он не возместит все, его ждет тюрьма или самоубийство.
Мать Эльзы умоляет ее спасти отца, попросив взаймы у господина фон Дорсдая, богатого торговца произведениями искусства. Эльза, задыхаясь от стыда, просит старика о помощи. Он отвечает, что завтра утром переведет деньги телеграфом в погашение долга, но... только если сегодня вечером она уступит его домогательствам.
Эти три события — хищение, план, выдуманный матерью, предложение, выдвинутое Дорсдаем, — образуют запускающий инцидент и резко меняют жизнь Эльзы в худшую сторону. В ней немедленно зарождается два противоположных желания: спасти родителей, пожертвовав собой, и спасти себя, пожертвовав родителями. Что бы она ни выбрала, цену предстоит платить огромную, потому что, говоря «спасти себя», я буквально это и имею в виду. Осознание Эльзой самой себя тесно связано с моралью. Если она спасает семью, то теряет моральный облик, следовательно, теряет саму себя.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: