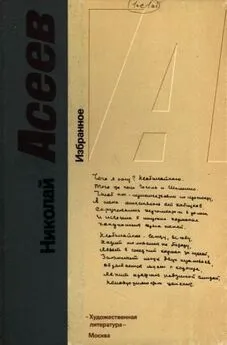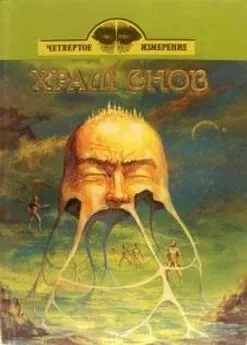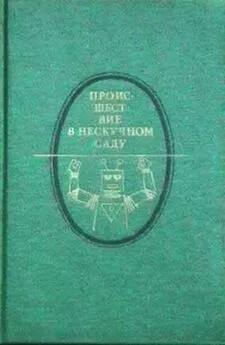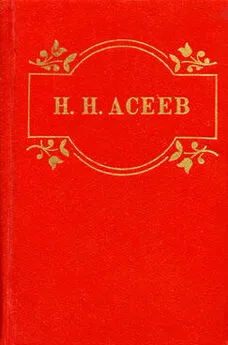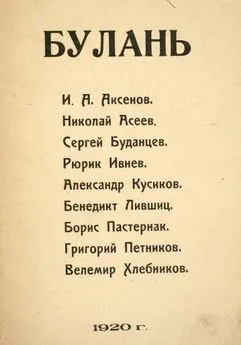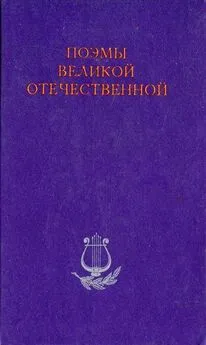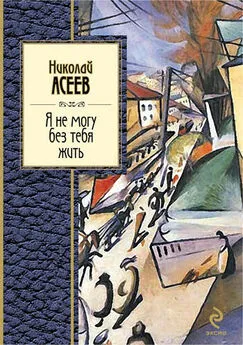Николай Асеев - Избранное
- Название:Избранное
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1990
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Асеев - Избранное краткое содержание
Будучи другом В. Маяковского, работая рядом с В. Хлебниковым, Б. Пастернаком и другими талантливыми поэтами, Николай Асеев обладал своим лирическим голосом. Его поэзия отличается песенностью интонаций и привлекает языком, близким к русскому фольклору.
Избранное - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Земмеринг
Стань к окошку
и замри,
шепот сказки
выслушай:
проезжаем
Земмеринг,
зиму в зелень
выстлавший.
А сквозь зелень
и сквозь снег,
в самом свежем
воздухе,
от сугробов –
к весне
протянулись
мостики.
И ползет по ним
состав
тихо,
не без робости.
Глянешь вниз –
красота,
дух захватят
пропасти.
Сквозь туннель
паровоз
громом
вдаль обрушится.
Горы,
встав в хоровод,
тихо,
тихо кружатся.
Их крутые
бока
здесь
не знают осени.
Точно
наш Забайкал,
только –
попричесанней.
Там,
где меньше б всего
с человеком
встретиться, –
залит солнцем,
пансион
к скалам
круто лепится.
Где б
обрывам подряд
да обвалам –
хроника, –
огородных
гряд
строки
млеют ровненько.
Что за люд,
за страна, –
плотно слиты
с ней они:
поле
в клетки канав
чинно
разлинеено.
Каждый
синь-перевал
взглядом
рви упорно ты:
до корней
дерева
шубами
обвернуты.
Зорче, взор,
впейся мой
в синей хвои
ветку:
я –
рабочей семьей
выслан
на разведку.
Тонкий пар
бьет, свистя!..
Очень
мысль мне нравится:
для рабочих
и крестьян
здесь
устроить здравницу.
Стань к окошку,
замри,
шепот сказки
выслушай:
вот какой
Земмеринг,
зиму в зелень
выстлавший.
[1927]
Термы Каракаллы
Будет дурака ломать,
старый Рим!..
Термы Каракалловы –
это ж грим!
Втиснут в камни шинами
новый след.
Ты ж – покрыт морщинами
древних лет.
Улицами ровными
в синь и в тишь
весь загримированный
стал – стоишь.
Крошится и рушится
пыль со стен;
нету больше ужаса
тех страстей.
Трещина раззявлена
в сто гробов;
больше нет хозяина
тех рабов.
Было по плечу ему
кладку класть
спинами бичуемых
в кровь и всласть.
Без воды, без обуви –
пыл остыл…
Пали катакомбами
в те пласты.
Силу силой меряя,
крался враг.
Римская империя
стерлась в прах.
Все забыто начисто:
тишь и тлен.
Ладаном монашества
взят ты в плен.
Время, вдоль раскалывая,
бьет крылом.
Бани Каракалловой
глух пролом.
Рим стоит
как вкопанный,
тих и слеп,
с выбитыми окнами –
древний склеп.
Брось ты эти хитрости, –
встань, лобаст,
все молитвы вытряси
из аббатств.
Щит подняв на ремни
боевой,
стань на страже времени
своего!
[1927]
Флоренция
В оправу
дольней тишины,
в синеющий
ларец ее –
на дно времен –
погружены
сады твои,
Флоренция.
Сквозь мрамор,
бронзу
и гранит
века твои
не ожили,
и прищур мертвенный
хранит
тяжелый сумрак
Лоджии.
И эта
смертная тоска
сквозь
каменное кружево
застыла
в ссохшихся мазках
художников
Перуджии.
И эти
древние глаза
закрылись,
радость высияв,
и черепом
глядит фасад
ощеренной
Уффиции.
И времени
невидный шлак
покрыл
резной ларец ее,
точно под воду
ушла
и там цветет
Флоренция.
Лишь башня Джотто
к небу вверх
столбом взлетает
яростным:
окаменелый
фейерверк
громады
семиярусной.
Да под пыльцой
и под грязцой,
сердясь,
что время сглажено,
долбит его
своим резцом
упорный
Микеланджело.
Но этот мост,
и этот свод,
и звонкий холод
лесенок
цветет –
из-под воздушных вод
зеленой влажью
плесени.
И ты поникла
навсегда,
и спишь,
без сил, без памяти,
и
бесконечные года
линяют
на пергаменте.
[1927]
Перебор рифм
Не гордись,
что, все ломая,
мнет рука твоя,
жизнь
под рокоты трамвая
перекатывая.
И не очень-то
надейся,
рифм нескромница,
что такие
лет по десять
после помнятся.
Десять лет –
большие сроки:
в зимнем высвисте
могут даже
эти строки
сплыть и выцвести.
Ты сама
всегда смеялась
над романтикой…
Смелость –
в ярость,
зрелость –
в вялость,
стих – в грамматику.
Так и все
войдет в порядок,
все прикончится,
от весенних
лихорадок
спать захочется.
Жизнь без грома
и без шума
на мечты
променяв,
хочешь,
буду так же думать,
как и ты
про меня?
Хочешь,
буду в ту же мерку
лучше
лучшего
под цыганскую
венгерку
жизнь
зашучивать?
Видишь, вот он,
сизый вечер,
съест
тирады все…
К теплой
силе человечьей
жмись
да радуйся!
К теплой силе,
к свежей коже,
к синим
высверкам,
к городским
да непрохожим
дальним
выселкам.
1929
Искусство
Осенними астрами
день дышал,
отчаяние
и жалость! –
как будто бы
старого мира душа
в последние сны
снаряжалась;
как будто бы
ветер коснулся струны
и пел
тонкоствольный ящик
о днях
позолоченной старины,
оконченных
и уходящих.
И город –
гудел ему в унисон,
бледнея
и лиловея,
в мечтаний тонкий дым
занесен,
цветочной пылью
овеян.
Осенними астрами
день шелестел
и листьями
увядающими,
и горечь горела
на каждом листе,
но это бы
не беда еще!
Когда же небес
зеленый клинок
дохнул
студеной прохладою, –
у дня
не стало заботы иной,
как –
к горлу его прикладывать.
И сколько бы люди
забот и дум
о судьбах его
ни тратили, –
он шел – бессвязный,
в жару и бреду,
бродягой
и шпагоглотателем.
Он шел и пел,
облака расчесав,
про говор
волны дунайской;
он шел и пел
о летящих часах,
о листьях,
летящих наискось.
Он песней
мир отдавал на слом,
и не было горше
уст вам,
чем те,
что песней до нас донесло,
чем имя его –
искусство.
1930
Последний разговор
Володя!
Послушай!
Довольно шуток!
Опомнись,
вставай,
пойдем!
Всего ведь как несколько
куцых суток
ты звал меня
в свой дом.
Лежит
маяка подрытым подножьем,
на толпы
себя разрядив
и помножив;
бесценных слов
транжира и мот,
молчит,
тишину за выстрелом тиша;
но я
и сквозь дебри
мрачнейших немот
голос,
меня сотрясающий,
слышу.
Крупны,
тяжелы,
солоны на вкус
раздельных слов
отборные зерна,
и я
прорастить их
слезами пекусь
и чувствую –
плакать теперь
не позорно.
От гроба
в страхе
не убегу:
реальный,
поэтусторонний,
я сберегу
их гул
в мозгу,
что им
навеки заронен.
«Мой дом теперь
не там, на Лубянском,
и не в переулке
Гендриковом;
довольно
тревожиться
и улыбаться
и слыть
игроком
и ветреником.
Мой дом теперь –
далеко и близко,
подножная пыль
и зазвездная даль;
ты можешь
с ресницы его обрызгать
и все-таки –
никогда не увидать».
Сказал,
и – гул ли оркестра замолк
или губы –
чугун –
на замок.
Владимир Владимирович,
прости – не пойму,
от горя –
мышленье туго.
Не прячься от нас
в гробовую кайму,
дай адрес
семье
и другу.
Но длится тишь
бездонных пустот,
и брови крыло
недвижимо.
И слышу
крепче во мне растет
упор
бессмертного выжима.
«Слушай!
Я лягу тебе на плечо
всей косной
тяжестью гроба,
и, если плечо твое
живо еще,
смотри
и слушай в оба.
Утри глаза
и узнать сумей
родные черты
моих семей.
Они везде,
где труд и учет,
куда б ни шагнул,
ни пошел ты.
Мой кровный тот –
чья воля течет
не в шлюз
лихорадки желтой.
Ко мне теперь
вся земля приближена,
я землю
держу за края.
И где б ни виднелась
рабья хижина,
она –
родная,
моя.
Я ночь бужу,
молчанье нарушив,
коверкая
стран слова;
я ей ору:
берись за оружье,
пора,
поднимайся,
вставай!
Переселясь
в просторы истории,
перешагнув
за жизни межу,
не славы забочусь
о выспреннем вздоре я, –
дыханьем мильонов
дышу и грожу.
Я так свои глаза
расширил,
что их
даже облако
не заслонит,
чтоб чуяли
щелки, заплывшие в жире,
что зоркостью
я
знаменит.
Я слышу, –
с моих стихотворных орбит
крепчает
плечо твое хрупкое:
ты в каждую мелочь
нашей борьбы
вглядись,
не забыв про крупное.
Пусть будет тебе
дорога одна –
где резкой ясности
истина,
что всем
пролетарским подошвам
родна
и неповторима
единственно.
Спеши на нее
и крепче держись
вплотную с теми,
чье право на жизнь.
Еврей ли,
китаец ли,
негр ли,
русский ли, –
взглянув на него,
не бочись,
не лукавь.
Лишь там оправданье,
где прочные мускулы
в накрепко сжатых
в работе руках.
Если же ты,
Асеев Колька,
которого я
любил и жалел,
отступишь хоть столько,
хоть полстолько,
очутишься
в межпереходном жулье;
если попробуешь
умещаться,
жизни похлебку
кой-как дохлебав,
под мраморной задницею
мещанства,
на их
доходных в меру
хлебах;
если ослабнешь
хотя б немножко,
сдашь,
заюлишь,
отшатнешься назад, –
погибнешь,
свернувшись,
как мелкая мошка
в моих –
рабочих
всесветных глазах.
Мне и за гробом
придется драться,
мне и из праха
придется крыть:
вот они –
некоторые
в демонстрации
медленно
проявляют прыть.
Их с места
сорвал
всеобщий поток,
понес
из подкорья рачьего;
они спешат
подвести мне итог,
чтоб вновь
назад поворачивать.
То ли в радости,
то ли в печали
панихиду
по мне отзвонив,
обо мне, –
как при жизни молчали,
так и по смерти
оглохнут они.
За ихней тенью,
копя плевки, –
и, что
всего отвратительней, –
на взгляд простецкий,
правы и ловки –
двудушья
тайных вредителей…
Не дай им
урну мою
оплюнуть,
зови товарищей
смело и громко.
Бригада, в цепи!
На помощь, юность!
Дорогу
ко мне
моему потомку!
Что же касается
до этого выстрела, –
молчу.
Но молчаньем
прошу об одном:
хочу,
чтоб река революции
выстирала
это единственное
мое пятно.
Хочешь знать,
как дошел до крайности?
Вся жизнь –
в огневых атаках
и спорах, –
доллго ли
на пол
с размаху грянуться,
если под сердцем
не пыль, а порох?
Пусть никто
никогда
мою смерть
(голос тише –
уши грубей),
кто меня любит,
пусть не смеет
брать ее…
в образец себе.
Седей за меня,
головенка русая,
на страхи былые
глазок не пяль
и помни:
поэзия – есть революция,
а не производство
искусственных пальм».
…Смотрю
на тучу пальто поношенных,
на сапогов
многое множество…
Нет!
Он не остался
один-одинешенек.
И тише
разлуки тревогой
тревожусь.
Небо,
которое нелюдимо,
вечер
в мелкую звездь оковал,
и две полосы
уходящего дыма,
как два
раскинутые рукава.
Интервал:
Закладка: