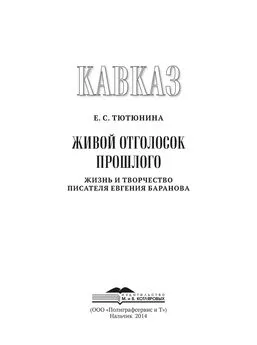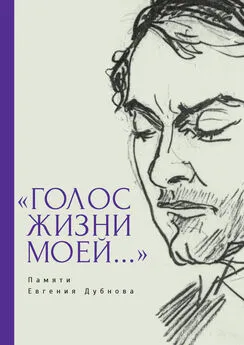Евгения Баранова - Номинация «Поэзия»
- Название:Номинация «Поэзия»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:15
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгения Баранова - Номинация «Поэзия» краткое содержание
Номинация «Поэзия» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
это другая местность, предсонная территория,
обратная сторона зрачка.
шершавая, узловатая, темная изнанка
не этого, непроявленного тебя.
проступает медленно, мягко,
обволакивая руины.
учит слушать-слушать, молчать.
растворяет знакомое, вещное,
бормоча, постукивая, скрипя.
можно ненадолго открыть глаза
из сознательного, обжитого себя,
туда, где древняя память, тьма.
эмбрионы блестящие, разноцветные… ты и я.
плавают, хлопают ртами, совсем как рыбы.
и яблоки падают-падают нам на головы,
создавая ямку, вмятинку родничка.
много яблок, не нужно срывать.
кислые, сладкие, наливные.
«Кто там, в мерцающей полумгле болотца…»
Кто там, в мерцающей полумгле болотца,
наливается зеленой жижей до глазных яблок? Кто там, в гулкой полумгле болотца,
покачиваясь, плывет, одинок,
словно погребальный кораблик?
Ржавеет насквозь, до суставов, уходит в трясину,
по капельке истлевая в культурный слой. Небо смыкается ряской,
когда погружаешься в мутное варево страха,
становясь внутри нежилой.
Поднимайся, соберем еловые да сосновые ветви,
прокоптим смерть до косточек, до медовых косичек. Сядем у хвойного костерка,
я разотру в тыквенной корке снадобье,
и мир перестанет быть мертв и токсичен.
Поднимайся, распутывай водяные лилии,
отрывай онемевшие лапы от волнистого,
марианского дна.
Слушай, как потрескивают поленья,
как фениксы напевают из пепла
о не обретенном своем никогда.
Тише-тише, я варю из ошметков предрассветной тьмы,
из пыльной разрухи целительное зелье. С каждым глотком небо перестает быть ряской,
становится синеватой густой акварелью.
Тише-тише, к дымному костру, пряному запаху
сходятся вымершие от водорослевой тоски звери. Тощими клубками сворачиваются у огня,
чувствуя, как прекращается кайнозой,
как застывает время.
«Воздух — полынный густой непокой…»
Воздух — полынный густой непокой,
крик звериный, чаячий, нутряной
предшествует выходу сквозь материю
чужого окостеневшего языка,
покрытого рунами неместного словаря,
мясным-костяным пеплом, сырой землей,
накопленными сквозь вой других воплощений.
Реинтеграция опыта здесь невозможна,
не хватает серого вещества
или совсем иного биологией не задуманного сырья —
механизм нездешнего знания стерт, потерян.
Целительное, чуть вязкое молоко
смывает с беззубых розовых десен мягко, легко
комья подземной памяти, человеческий порошок
тщательно замурованных — вершок за вершком —
в гранитный переработанный щебень.
Деформация в сложное из простого
происходит в попытке преодолеть
протяженность времени, органическую смерть,
осязая слоистую речь, выкликая фактуру слова.
Многоязыкое прошлое наблюдает
чистый необработанный страх, как он есть,
смотрит-смотрит, пока не появится кожа, шерсть,
пока не получит прочный скелет, свеженький, новый.
Концентрированная память ужаса
потихоньку исчезает из головы,
создавая тоненькие извилины,
будто хирургически-осторожные швы,
стирает другие миры, пряча в ладони
древние карты, ветхие фрески.
Теснота черепной коробки, регенерация клеток —
учат хрупкое, слабое тельце мудрому ремеслу забывать.
Открываешь глаза, словно никогда не умел умирать,
становясь легкий, пустой, нерезкий.
«Сколько веков уже ни вдохнуть поглубже…»
Сколько веков уже ни вдохнуть поглубже,
ни толком пошевелиться,
мысль о покое пульсирует гарпуном в голове.
Три кита вытягивают серебристые лопасти плавников,
расслабляют сведенные мышцы,
шепчут друг другу — так будет лучше, поверь, просто поверь.
Три кита шепчут друг другу на своем китовом — хватит.
Выгибают огромные, истертые спины —
через минуту свободы позвоночники с хрустом вдавливаются
в их тяжелые, распадающиеся тела.
Погружаются на прохладное дно гулкие новостройки, просыпающиеся дома, тихие лофтовые кофейни, чей-то любимый винный.
Cтарухам обратно в глотки заталкивает ругань вода,
Триер не успевает схватить камеру, но успевает подумать,
что, в общем-то, концептуальный финал.
Мясному крошеву городов на завтрак приносит водоросли,
приправленные подводной тоской, седой Магеллан.
Косточки памяти, слов, смыслов доедают беспокойные, вертлявые
то ли головастики, то ли мальки.
Человечьи позвоночники сжимаются в рыбьи, легкие становятся жабры,
руки-ноги — ребристые, скользкие плавники.
Кожа зарастает разноцветными чешуйками.
Три кита падают в глубь мутной воды уснувшими баржами —
донные рыбы заботливо их укутывают в вязкий, прохладный,
приятный уставшему телу ил.
Летучий Голландец расправляет рваные сухожилия парусов,
отрывает от липкого дна заржавленный киль.
«голубой вагон летит-качается…»
голубой вагон летит-качается
там, где самый край света,
точнее, твердого тела.
истаивающие ландшафты кожи,
некогда уютные бока-берега.
там, где рай развоплотившейся тесной формы,
обрыв беззащитного скелета.
там, где костяная крепкая береста
редуцируется до несозданной, невесомой себя.
незачем больше в гравитацию
неподъемными пористыми туловами врастать.
точнее, попросту нечем.
скатертью-скатертью, шершавой клеенкой,
невыстиранной пеленкой
стелется дальний путь.
там, где кончается неосознанное, звонкое, человечье
начинается что-нибудь…
другая музыка. другая одушевленность.
мысль трансформируется в звук сама по себе,
не нуждаясь в таком атавизме, как речь,
не выбирая транслятором теплокровную емкость.
время растворяет всякую плотность,
вбирая зернистую память распадающихся вещей.
и тебя успокоит да приберет
в теплое нутро голубого вагона,
когда-нибудь и тебя
хрустящий комочек нервов-сказок-хрящей,
поизносившийся с изнаночных, лицевых,
весь такой непричесанный, ломкий.
«Просто катиться без мыслей в промозглый лес…»
Просто катиться без мыслей в промозглый лес,
отбивая обожженное тельце об острые камни.
Просто катиться в быстрый прохладный ручей,
остывать, размокать в хлебный безвкусный мякиш.
Наскребли по углам плесневелой грязной муки —
румяный рот набит теперь пылью, клопами, жуками.
По сусекам мели, в сметане валяли,
раскаленным маслом глаза заливали…
говорили — ну вот, скоро ты у нас
таким круглым, таким сытным станешь —
будет сегодня праздник, будет горячая еда папе-маме.
Просто катиться, прикрыв мучные глаза,
вспоминать темный сырой уют покосившегося амбара.
Нет, тогда я не слышал, как собирают дрова,
как по сусекам слоеных детишек метут.
Как их ставят студить на окошко, а те что-то плачут,
кого-то зовут, щурятся от липкого пара.
Нет, я не слышал, лежал в расфокусе,
в густой паутине раздет, разут,
точнее, разобран на незаметные глазу крошки.
В необитаемой тьме, пшеничное послесмертие
темней, чем мазут.
Нет, я не слышал, как они топят печь,
как просеивают сквозь сито муку,
шепча — тихо ты, осторожно.
Нет-нет, вы жуйте — медведь, заяц, лиса, не бойтесь,
так быстрее в мягкое злаковое небытие катиться.
И они, озираясь, жуют хрустящие глазки, сметанные бока,
приговаривая — это пшеница, просто пшеница.
Интервал:
Закладка: