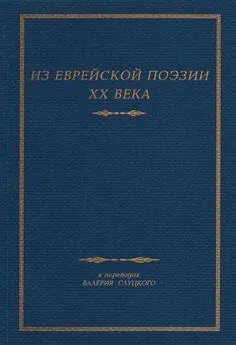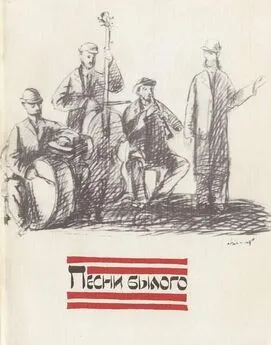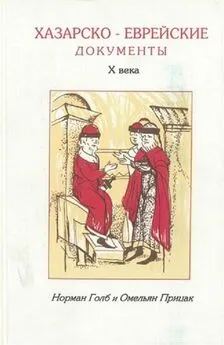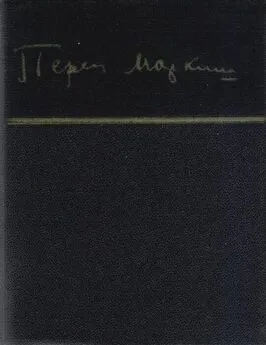Перец Маркиш - Из Еврейской Поэзии XX Века
- Название:Из Еврейской Поэзии XX Века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2001
- Город:Иерусалим
- ISBN:965-222-968-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Перец Маркиш - Из Еврейской Поэзии XX Века краткое содержание
Из Еврейской Поэзии XX Века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Во многих характерных для Гофштейна стихотворных произведениях живой, конкретный, современный мир осмысляется с библейской масштабностью. В отличие от привычной для русскоязычного читателя поэтической речи, где целое, как правило, складывается из отдельных, эстетически взаимодействующих образов, эти стихотворения сами являются укрупненными образами. Например, в стихотворении « Еще стены оплетены лесами… » художественно-содержательный разворот определяет моно-метафора — стройка.
Еще стены оплетены лесами,
Мусором старым
Завалены пороги,
И эхом отдает еще пустота…
Но я уже вижу вас, миры обновленные,
Глазами светлой веры…
В других случаях укрупненный образ как бы вплетен в изобразительно-смысловые ярусы поэтической ткани. Вот стихотворение, основа которого — картина проходящих суток.
(НОЧЬ) На тихом весеннем просторе диких далей
Все капает и капает моя старая трепетная
кровь.
К черному сердцу прижимают ночи
Боль дней оскверненных.
(ЗАРЯ) Но пламя раскалывает мягкое лоно туманов
И выжигает в огненном ожидании
Все новые знамения
Для следующего натиска затаившегося гнева…
(УТРО) У красных ворот прозрачного утра
Становится на вахту
Звук мчащегося горна…
А гривы готовы к первому рывку,
И копыта железные едва дождутся
Первой смены проносящихся далей,
Удара новых битв…
(ДЕНЬ) С сердечным трепетом я слушаю их,
Тысячедыханные крики радости,
С застывшим страданием я чувствую их,
Немые трепещущие боли…
(ВЕЧЕР) И когда ночь
Готова клонящийся день
В немом лоне укрыть, —
К далям тянет мою пламенеющую душу…
(НОЧЬ) Веревками тысяч желаний связан,
За колесами усталыми, пьяными от битв,
Пленный я шагаю среди полей широких.
(ЗАРЯ) И я с ними, всегда готовыми
К новым звукам бодрящего горна,
К новому пламени очищающего гнева…
Многоплановость этого стихотворения вынуждает нас обратиться к несколько условному, последовательному описанию его изобразительно-смысловых рядов, каковых в приведенном стихотворении нам видится по меньшей мере два. Внешний план стихотворения — восходящее новое бытие и жертвенность отжившего, умирающего мира, от которого неотделимо « мое » существование, « моя старая (т. е. ветхозаветная) кровь », сочащаяся на «весеннем просторе диких далей». « Ночи », прижимающие к « черному сердцу (траур)… боль дней оскверненных », «раскалывает пламя» зари (новой жизни), чьи огненные «знамения» возвещают « следующий натиск затаившегося гнева » (нового сознания, веры). Новая действительность, взявшая в плен « мое » существование, побеждает (образ Гражданской войны) в битве между радостью обретения и болью утраты, сметая прежнее, отжившее бытие « пламенем очищающего гнева ». Должно быть не случайны в этом ряду « колеса усталые, пьяные от битв », « всегда готовые к новым звукам бодрящего горна ». Здесь (не в ущерб, разумеется, образу тачанки) вполне правомочна ассоциация с огненной колесницей — солнцем. Любопытны также смысловые штрихи, раскрывающие стройность и глубину целого. Так в начале стихотворения пламя зари, вычерчивающее огненные знамения для натисков « затаившегося гнева », является символом очищения, а в финале, в знак совершившейся победы, «пламя очищающего гнева» символизирует зарю. Таким нам видится внешний план, далеко не исчерпывающий содержание стихотворения. Образ « моей пламенеющей души » переключает восприятие на новый смысловой регистр, подсказывая, что восходящее солнце, заря « раскалывающая мягкое лоно туманов » — « моя » душа. Ветхое и новое, отжившее и рождающееся, ночь и день в подобном прочтении могут пониматься как внутреннее напряженно-трагическое отношение двух сторон моего существа — « старой (вет-хозаветной) крови » и рассветной души, боли и радости, сражающихся « во мне » самом, чувства оскверненности (« дней оскверненных » — в начале стихотворения) и пафоса очищения (« очищающего гнева » — в финале). Указанием на то, что перед нами разворачивается мистерия внутренней жизни сознания, можно считать отсутствие в стихотворении других кроме «меня», «моей» души действующих лиц. Не горнист, но — «звук мчащегося горна», не всадники, не конница даже, но — «гривы, готовые к первому рывку» и «копыта железные», ждущие в нетерпении «первой смены проносящихся далей», не кричащие радостно или поверженные в страдании люди, но — «тысячедыханные крики радости» и «немые трепещущие боли», не герои-конармейцы, но — «колеса усталые, пьяные от битв». К тому же предельно абстрактен, обобщен и сам пейзаж — «простор диких далей», могущий трактоваться в данном контексте как духовное пространство сознания, охваченного пламенем внутренней борьбы, сознания, в котором совершается преображение личности. Стоит ли пояснять, что наше прочтение не исключает других аргументированных интерпретаций стихотворения. Принципиально одно — существенность у Гофштейна изобразительно-смысловых деталей, соотнесенных в каждом развороте содержания и, следовательно, сама возможность усмотрения таких разворотов, определяющих глубину и многомерность поэтического произведения.
Диалектичная мысль является сердцевиной, содержательной осью поэзии Гофштейна. Внутренне напряженные отношения смыслов сталкиваются, спорят, ищут разрешения. Вот, к примеру, одно из поздних стихотворений, тонкая лиричность которого пронизана смысловым драматизмом.
Три свободных, свободных дня я легко получил
Для творческого отдыха, для глубокого покоя,
Который вдруг включается в напряженный труд…
Река Ирпень, лес, лужайки — все здешнее…
Кругом светло, много раз кукует мне кукушка,
Долголетие, как видно, щедро дарят здесь…
Зеленый простор вновь стелится перед глазами,
Уйма цветов на лугу — желтые, желтые…
Так что же, так что же, если еще год пролетел,
И он, этот мир, и ты уже не те?..
Постаревшим я увидел себя в зеркале…
Молодая липа медленно умирает под окном…
Время раскрошило цемент на ступенях,
Измельчило также там немного красный кирпич…
Но жизнь цветет и нежно и твердо убеждает,
И много старых деревьев бодро держат голову!..
О, нет, мой счет с миром не закончен!
В изменении я чувствую большую радость постоянства!
В первых трех строках нам открывается смысловой зачин стихотворения — философская формула духовного процесса. Суть его Гофштейн выразил в простых словах, их диалектичность проглядывает сквозь лирическую повествовательность: «Три свободных… дня я легко получил… для глубокого покоя, который вдруг включается в напряженный труд…» Полнота существования связана с непрерывным созидательным взаимодействием созерцания и осмысления, самоощущения и самосознания. «Глубокий покой», то есть освобожденное ясное состояние духа, является диалектическим полюсом « напряженного труда », из их единства складывается подлинная жизнь личности. Композиция стихотворения как бы иллюстрирует эту мысль. Возникающая перед нашим взором картина: река Ирпень, лес, дарящая долголетие кукушка, простор, цветы — тот самый полюс « глубокого покоя », недостижимый при этом без « напряженного труда » всепроницающего осмысления. Так лирически умиротворенный пейзаж «вдруг включается» в скрытый драматизм смысловых столкновений, стремящихся к исчерпывающему мировоззренческому разрешению. « Так что же… — спрашивает сознание, в самой интонации вопроса подразумевая ответ, — если еще год пролетел, и он, этот мир, и ты уже не те?.. » Конечно, все те же — и этот знакомый мне берег, и я, радостно узнающий « все здешнее ». И тут же вопрос-утверждение сменяется своей смысловой противоположностью: « Постаревшим я увидел себя в зеркале (то есть — я изменился)… Молодая липа медленно умирает под окном… Время раскрошило цемент на ступенях („этот мир“ изменился)… » И вновь — смысловая противоположность: « Но жизнь цветет и нежно и твердо убеждает, и много старых деревьев бодро держат голову!.. » Две отрицающие друг друга смысловые линии стихотворения: изменение — неизменность, сталкиваемые «напряженным трудом» сознания, приходят к сложному победительному единству. Две смысловые противоположности находят примирение в парадоксальной, мировоззренчески созидательной мысли: « В изменении я чувствую большую радость постоянства! » Это и есть « глубокий покой » — предтеча и одновременно дар не знающего покоя мировоззренческого « труда ».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: