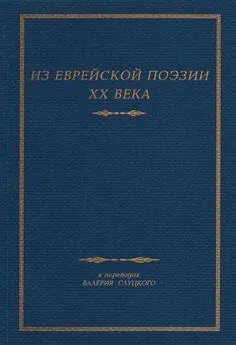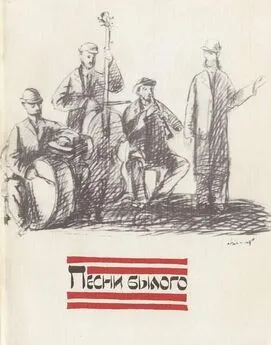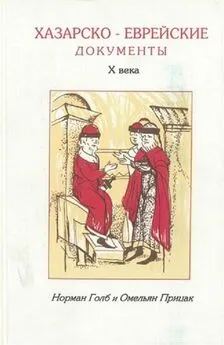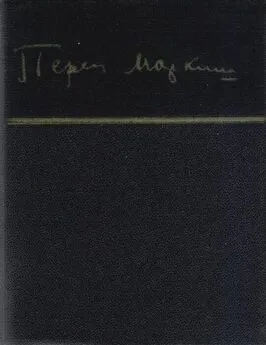Перец Маркиш - Из Еврейской Поэзии XX Века
- Название:Из Еврейской Поэзии XX Века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2001
- Город:Иерусалим
- ISBN:965-222-968-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Перец Маркиш - Из Еврейской Поэзии XX Века краткое содержание
Из Еврейской Поэзии XX Века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Понимание поэзии Гофштейна будет обедненным, если подходить к ней с традиционными для восприятия лирики мерками, предполагающими смысловую обособленность отдельных стихотворений, их независимость друг от друга в своем замкнутом содержании. Стихотворения, прочитанные в той последовательности, которую назначил им сам Гофштейн, определяя композицию своих книг и разделов, раскрываются в новой содержательной полноте, связанной с появлением сквозного, отчетливо прослеживающегося сюжета. Разрозненные на первый взгляд стихотворения предстают как моменты поэтического целого, не только проясняющего их внутренний смысл, но наделяющего их, так сказать, сверхсмыслом, то есть содержанием по отношению друг к другу и к самому объединяющему их сюжету. Более того, обнаруживается сквозная метафорика, получающая последовательное смысловое развитие в сменяющихся контекстах. И главное, жизнь личности — основная тема Гофштейна — приобретает зримость реального предстояния, духовный масштаб, многоплановость и динамичность. Такое прочтение позволяет увидеть поэзию Гофштейна как единое действо, лирическую мистерию — перед нами в последовательных картинах проходит жизнь личности, раскрывающаяся на языке поэтического исповедания. Возьмем для иллюстрации фрагмент раздела «Рассвет» из книги «У дорог», изданной Гофштейном в 1919 году. В стихотворении «Моя мама в самом начале моего существования…» переживаются воскресшие в « моем » сегодняшнем сознании младенческие впечатления — созидательная основа «моего» зрелого бытия. Следующее стихотворение « В пути » также о воскресшем во « мне » сегодняшнем « начале моего существования », но уже о том « начале », которое восходит к « глубинам издревнеюных лет », к « моей другой древней ипостаси ». Затем « Яблоко » — соблазнительный плод от Древа Познания, вкушение которого связано с познанием жены и изгнанием из Рая. Далее « Я увидел ее у реки… » — стихотворение (к его самостоятельному содержанию мы уже обращались), где разворачиваются смыслы, подготовленные « Яблоком » — « Вот та, которую зовут Жена » и « Рассеянные, распыленные останки моей издревней родины ». Затем следует стихотворение « В тесной комнате… » (также прочитанное выше в его независимом контексте), где « мы », сбросившие оболочки сегодняшнего — « наши помятые одежды » — возвращены « нашей » близостью в светлое забытое « назад », то есть в «глубины издревнеюных лет» (что было бы не понятно в отрыве от предыдущего стихотворения). Дальше — « Туман на улицах… ». Это стихотворение переводит регистр видения в реальность сегодняшнего, к одиночеству любви, отсеченной, словно стеной тумана, немой действительностью от « издревнеюных лет ». Дальше следует стихотворение « Вечер », где в забывшем о « нас » шумном и алчном мире « наша » близость возвращает « мне » любовь-родину. В следующем стихотворении « Как печально-сладко человеком быть !» предстает уже любовь воплотившаяся, телесная реальность « моей » будущей судьбы. Между этим стихотворением и стихотворением « Моя мама в самом начале моего существования… » видна ясная смысловая параллель, подсказанная общими в них обоих образами — « голубым бархатом » неба и « звездной сетью ». Но здесь « начало моего существования » воскресает не во « мне », а передо « мной » как объективное, с которым « мы » вместе причаствуем одному сокровенно-неизъяснимому знанию « как печально-сладко человеком быть ». « Начало существования » сына раздвигает пределы « моего » бытия, и от этого « я » чувствую, проснувшись глубокой ночью, « как шевелятся крылья вечности »…
И дальше, и дальше можно было бы наблюдать разворачивание поэтического действа. Разумеется, столь беглое описание фрагмента лирической мистерии позволяет лишь в малой степени прикоснуться к художественной и смысловой многомерности выявляющегося целого. Да и сам сюжет, как, впрочем, и каждое в отдельности стихотворение, неисчерпаемы для объективного и индивидуального толкования и осмысления. В этом подлинный масштаб, красота и уникальность поэзии Давида Гофштейна.
О Хаиме Ленском
Известно, что с иврита начинали многие еврейские поэты, писавшие впоследствии на идише. Для Хаима Ленского иврит стал языком поэтического самосознания, и за право писать на иврите, объявленном в СССР «мертвым» и «контрреволюционным» языком, поэт заплатил не только полной изоляцией от читателей и насильственным отрывом от литературных процессов, но и собственной жизнью.
Ленский стоит особняком в поэзии советского периода, и дело тут не в одном лишь выборе языка. Уникально поэтическое кредо Ленского, мировоззренческая установка его творчества.
Лирика нового времени сориентирована, как правило, на ярко выраженную различенность индивидуального мировосприятия. Метафора, эстетически трансформирующая действительность, призвана быть зеркалом, отображающим мысли и чувства автора, инструментом его самовыражения. Очевидно, что содержательная доминанта здесь — в пафосе отстаивания своей индивидуальности перед стремящимися поглотить, унифицировать ее внешними силами.
Поэзия Ленского имеет принципиально иную направленность. Ценностный ориентир его творчества — духовная сопричастность сакраментальному содержанию предметов и явлений объективной действительности, возможность прямого усмотрения в них онтологического смысла. Видение Ленского преодолевает двоение реальности на безусловную и эстетическую. Оно — не деформирующая призма, но увеличительное стекло, укрупняющее жизненную данность до метафорически-притчевого значения. Так, в миниатюре « Слышу, папоротники шуршаньем листов… » поэтическая констатация факта проясняет его бытийственный смысл. То, что на первый взгляд может представляться риторичным и отвлеченным, предполагает конкретную ситуацию, буквальное понимание, содержательно раскрывающееся в осмыслении. К примеру, в стихотворении «Охранник юный…» завершающая строка: «„ Шалом! Шалом!“ — налево и направо », звучащая, казалось бы общо — предельно конкретна, поскольку помимо значения приветствия и прощания подразумевает идущего в колонне заключенных или конвоируемого человека, то есть ситуацию, где, по известному положению, шаг в сторону (вправо или влево) рассматривается как побег. Двоекратное «Шалом!» относится соответственно к правой и левой сторонам — свободе, не достижимой физически, но обретенной в акте духовного приятия.
Обращенность к сакраментально-бытийственному содержанию самой действительности снимает характерную для индивидуалистического творчества конфронтацию с внешним миром. Пафос утверждения собственной различенности уступает место опознанию провиденциального значения данностей, то есть жертвенному приятию, выражающему полноту духовной укорененности личности в бытии. В этом качестве, сформировавшись не сразу, поэтическое мировоззрение Ленского проявляется перед лицом предельных испытаний. Его ранним произведениям присущи все те черты, которыми заявляет себя традиционно индивидуалистическая установка: культивирование эстетической реальности, самоотстаивание и противостояние (см. « Воет вьюга. Ворота скрипят на ветру… », « Они насмешки мне бросали вслед… ». Интересно сравнить стихотворение « Речь Хеймана, владычица уст Галеви! » со стихотворением лагерного периода « На севере мира », где важная для Ленского тема раскрывается в новом победительно-жертвенном осмыслении.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: