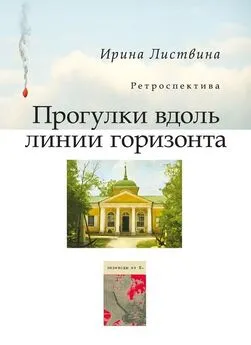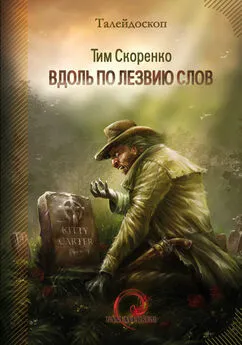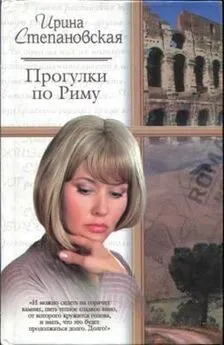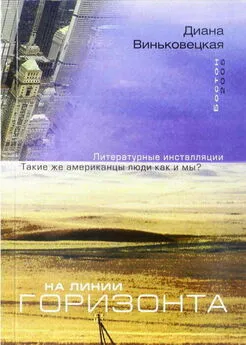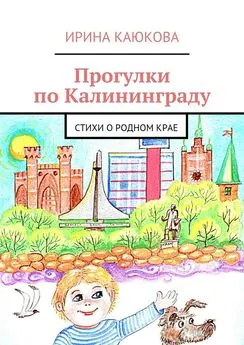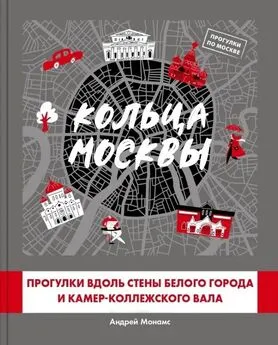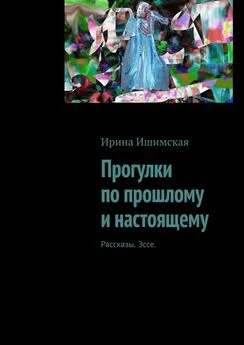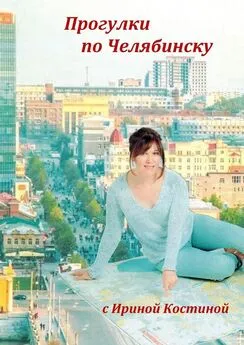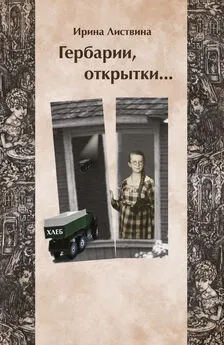Ирина Листвина - Прогулки вдоль линии горизонта (сборник)
- Название:Прогулки вдоль линии горизонта (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Геликон
- Год:2017
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-00098-091-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Листвина - Прогулки вдоль линии горизонта (сборник) краткое содержание
В поэтике Листвиной нет логического изложения событий трёх характерных для неё рядов – сюжетно Библейско-Евангельского, дневникового и исторического (выпавшего на долю современников и параллелей – из российской истории), Подоплёка, подпочва этих стихов, их истинное содержание – трагическое познание и странствия души, ищущей очищения и свободы…
В этом стремлении преодолеть преграды повседневного существования есть две составляющие – вертикальная и горизонтальная. Авторское я как бы то опускается на дно колодца («Колодец двора»), то пробивается из земли, как растение, и тянется вверх к небесам («Нездешний бал», «Вариация из Верлена»). А в горизонтальном плане преобладает взгляд – в широком смысле слова. Но это и взгляд из окна в даль, и встречный – из дальних просторов в окно, в тесноту ограниченного пространства («Карниз», «Дом», «Баллада о ране»)…
Эти пограничные странствия и искания даны не прямо, а в символической системе образов, сквозь интуитивное овладение словом, не только продолжающее традиции поэзии начала XX века, но и связующее их со стоящей особняком линией Велемира Хлебникова. Когда выщепление корня из жизненных связей слóва соединено с проникновением во внутреннее, объединяющее словá, как живые единички языка, родство («Корни»)…
(Отрывки из рецензии Т. Ю. Хмельницкой)
Прогулки вдоль линии горизонта (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
солн-шар [4] «Солншар» – словообразование (как у Северянина, Шершеневича и многих ранних эго-футуристов и имажинистов – ещё до 1917 г.).
– печёное яблоко,
он мал, но оно сквозное,
вот белый олень промчался,
и миг лишь до сна остался…»
…
Но отчего – под колёса
мгновенья, будто каменья?
Не чудится ли аллея?
Не взять ли левей откоса?
Лёд тронулся, не остановишь,
напрасно баранку ловишь,
джип, верная моя лайка,
что ось, что любая гайка
летят за север, за осень,
вслед снегу тебя заносит
туда, за алмазной гранью
(последней в максимализме?)
за Северный полюс жизни
или, быть может, за Южный
(такой же книжный и вьюжный)…
А грань земная – на осень,
по кругу назад – и бросит.
И вот аллея из елей
покрыта снегом забвенья,
(и всем нам, тронутым ею,
она видна еле-еле…)
Мой город, на сон похожий,
летят огоньки и звенья,
что ж, снова я твой прохожий.
Но сонм рождественских елей
всё там же – он не левее,
а прямо – и вверх! Правь твёрже.
«В горах моё сердце» [5] «В горах, в горах моё сердце» – из Р. Бернса в переводах Маршака.
, Боже.
Почти верблюд
Дети, и цветы, и звери
(Или проще, Рай)
Проходи, зовут, сквозь дверь и
С нами поиграй.
Но она – всё туже, уже.
Нет, не мародёр,
Не пират, я неуклюже
Взрослый дромадёр.
Больше солнца и без меры —
Вас любил-люблю.
Жаль, что я уж жёлтосерый
И почти верблюд.
На дворе кричит погонщик
И стоит жара,
Тащат тачку, катят бочку —
Вот и вся игра.
Побреду, закинув шею,
В жар песок колюч.
В нём найду ли ваш волшебный
И сребристый ключ,
Что, открыв в оградах струны,
Прозвенит в саду,
Где игрушечные луны
Ждут свою звезду.
Душа моего тела
Т. Ю. Х. [6] Посвящение сделано на несколько лет позже.
Душа моего тела,
ты словно бы онемела,
не всё ли тебе равно —
в подушку или в кино.
Душа моего тела,
какой ты стала несмелой,
движеньям ты разучилась,
да что же с тобой случилось?
Ты вспомнить не захотела
мир глиняно-пустотелый.
Тебе б улиткой свернуться,
к простой молитве вернуться,
забыто старозаветной,
вечерней и предрассветной.
Душа моего века,
ты слепо замкнула веки.
Какое тебе дело,
пускай веселится тело,
пускай оно опустело.
И мир танцует на нервах,
век-спринтер кричит: «Кто первый?»
(«Кто последний?» – мы,
он: «Да-вай пер-вых!»),
мир концовок, уличный, оный —
словно лагерник перед шмоном.
На прямой магистрали века
сметены следы человека.
Нервопровод тонет в бетоне,
напряженье гудит да стонет.
Время терпит, нервы спрессованы,
нервы прячутся за засовами.
Нет звезды. Но ведь тьма – шатается,
когда ощупью ищут свечу.
И ребёнок – рождается
за последним: «Я не хочу!»
Родина (1)
Ирине Чемодановой
[7] Стихотворение долго пролежало в черновиках. «Воспоминание (о 50-х)» в заглавии появилось намного позже. («Родина»).
Родина, просто ли родина —
роды, и росы, и рожь?
В мир прирастаем к ней родинкой
духа? Отрежут – умрёшь?!
Солнцем раёшно заоблачным,
пестрядью детской берёз,
ситником пыльным просёлочным,
говором линий и гроз.
И расстояньем – громов и вьюг
(даль и лесная мгла)?
Или – от дула к надбровью
гулом – вдоль рук и стола?
Трав неоглядною ржавью,
горечью их неживой,
глушью равнин – рвы зажаты! —
в чёрный распах ножевой?
…Гром приумолк, мгла уж прячется,
битвы покрыты землёй.
Что всё клянёшь ты нас, мачеха?
Матушка, боль успокой!
Осенний рисунок. Дорога
Ах, если бы ѝначе! Хоть бы немного.
Но в даль убегает прозрачно дорога.
Ни тени, ни света – иначе – не будет,
И мимо проходят усталые люди.
Раз путь – выпад в цель, тем точней,
чем случайней.
Он краток, и надо в нём быть —
без отчаянья.
Гадалка
1. В детстве
В детстве, в бегстве (конном и звонком)
мне хотелось быть амазонкой.
…
А в конце – прыжок над домами —
и домой, на тахту и к маме.
Каждый класс на домик похожим был —
так давно. Осталось тревожное:
кто-то дремлет во мне с начала,
и растёт со мной, но ночами.
Что же делать мне, кто там скрылся,
кто, как в куколке, спит в курсистке,
мотылёк, балерина безногая,
контур скрипки без нот и без грифа —
может, всё это блажь без подлога —
просто как эпидемия гриппа?
Ждать, слоняться, жечь сны, как бумажки,
жить в каминном жару, днём вчерашним,
с музой (странной штабскапитаншей,
в бывшем Энске виды видавшей,
но не сдавшейся и не сдавшей)
Что же дальше-то? Что же дальше?
Рассудительная, домашняя
(в туфлях маминых, в сумерках) грусть
ждёт, шепча, осунувшись, спрашивая —
с детства помню я наизусть.
Только вдруг – не она, а с шалью,
и цыганкой глядит шальной.
Не с грустью – с полынь-печалью,
сама говоря с собой.
2. Гадание. Провал
«Как дважды два – всё просто».
Что можешь ты сама?
Нам издавно приказано, заказано – зима,
бетонная дорога, казённые дома.
Колокольчик – и тот по ГОСТу,
а даль звенит сама:
«Дни-деньги-дон… погосты,
дней-денег-дзень… кутерьма».
А за карточными домиками —
сума там или тюрьма?
Модерн, таверны, замки,
тур – манкая [8] Туры – туристические поездки. Манкий (-ая) – на жаргоне 50 – 70-х – заманчивый, манящий (от «манить»).
, да тьма?
– Постой-ка, что ты болтаешь, цыганка,
Господь с тобой!
– Не знаю, сама узнаешь,
смотри, не шути с судьбой.
Разложила карты в холмики,
как голубь, бьётся туман,
на них «крестики» и «нолики»
расставит жизнь сама.
Прости, сбылось отчасти,
но не случилось вдруг,
пусть кто-то будет счастлив
с тобой, мой милый друг.
Тузы, что там, за глянцем,
пиковый взял валет.
Всё разошлось в пасьянсе
«Мари-Антуанет» [9] Имя обезглавленной французской королевы. Пасьянс с таким названием был. Помнится, был даже и пасьянс «Могила Наполеона».
.
Интервал:
Закладка: