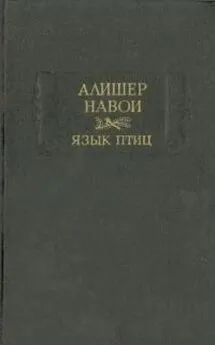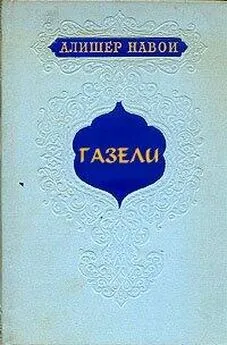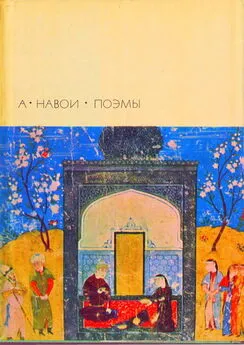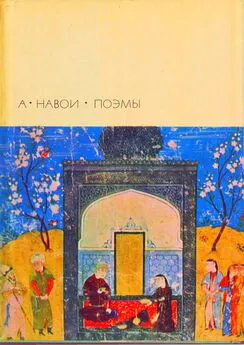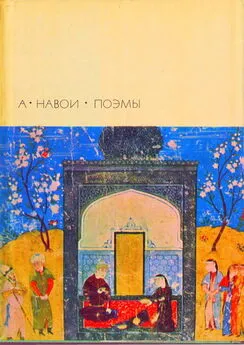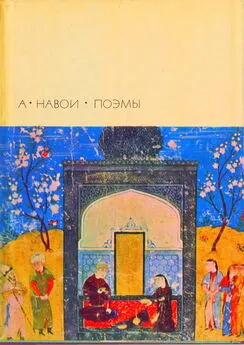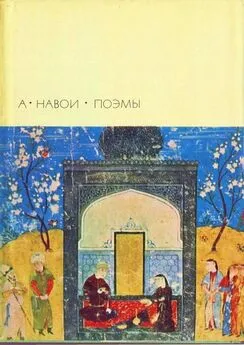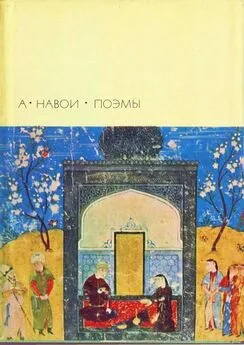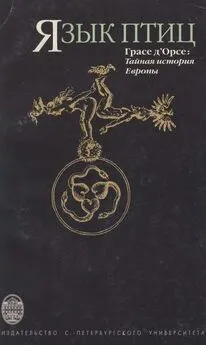Алишер Навои - Язык птиц
- Название:Язык птиц
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1993
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алишер Навои - Язык птиц краткое содержание
Язык птиц - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В имеющихся русских и европейских словарях нет прямого соотнесения слов «д-р-д» и «соф». Но на связь этих слов есть указание в анонимном персидском словаре суфийских терминов, опубликованном Е. Э. Бертельсом, «Мир'ати ушшак» («Зерцало влюбленных»). Там слово «дурд» (иное чтение исключается, так как поставлена огласовка) поясняется следующим образом: «Так говорят о некоторых состояниях при изображении чувств». Далее идет иллюстрирующий это положение бейт: «Я настолько сдружился с теми, кто тянет гущу («дурд»), Что не считаю напитком чистое («соф») вино удовольствий».5 Упоминание винного осадка («дурд») встречается и в газелях Навои.
Таким образом, обращение к примерам употребления двух интересующих нас слов и к источникам их толкования возвращает переводчика к упоминавшимся двум возможностям прочтения слова «д-р-д». Как же быть? Какой вариант предпочесть? Представляется правильным читать в первом случае «дурд». Такое объяснение имеет, на мой взгляд, веские основания, опирающиеся на особенности поэтических приемов персидско-таджикских и тюркоязычных поэтов. В данном случае имеется в виду поэтический прием, называемый «ихам» («двусмысленность», «введение в заблуждение»). Суть этого приема состоит в том, что поэт, употребив в одном месте своего произведения известное сочетание или противопоставление слов, в другом месте «ловит» читателя на такое же чтение сходного по смыслу куска текста, в действительности вкладывая в слова несколько иной смысл. В приведенных примерах мне кажется обоснованным в первом случае видеть противопоставление «гущи» и «прозрачности», а во втором — «страданий» и «радости». Именно в этом последнем отрывке Навои и использовал прием «ихам»: читателю, подготовленному предшествующим контекстом к восприятию соответствующих слов в значениях «гуща» и «прозрачность», он неожиданно «подает» иной смысл данного противопоставления.
Сочетание слов «д-р-д» и «соф» встречается еще и в бейте 3158: «Если уж у вас так много болтовни о любви, Радуйтесь, даже если от нее достанется „д-р-д" и,,соф"». В этом бейте интересующее нас сочетание переведено мною одним словом «муки», и этот (третий!) вариант перевода — не произвол переводчика, а попытка обоснованного толкования текста. В цитированном двустишии подлинника оба слова, в отличие от рассмотренных выше двух примеров их употребления, не разъединены друг с другом, а, наоборот, представлены в виде сочетания — с соединительным союзом между ними. Сложные слова такого типа, заимствованные из персидскотаджикского языка или собственно тюркские, образуясь посредством объединения противоположных понятий, часто имеют значение, определяемое не суммой значений объединяемых слов, а собирательное, обобщающее семантику лишь одного из компонентов. Ср. такие сложные слова, как «бор-у-йук,» (тюркск.) и «буд-нобуд» (перс.-тадж.) в значении «всё, что есть» (в обоих случаях сочетаются слова со значениями «есть» и «нет»).
Немало трудностей доставляет переводчику возможность разного чтения многих слов, написанных арабской графикой. В этом смысле весьма любопытны ошибки в транскрипции текста поэмы при издании ее в 15-томном собрании сочинений Навои на узбекском языке (на основе современной узбекской графики): напечатано «кун» («день»), надо — «кавн» («мир», «вселенная»); напечатано «кимни килса» («если сделает кого-либо»), надо — «ким на килса» («если кто сделает что-либо»); напечатано «укрб» («орел»), надо— «икрб» («наказание»); напечатано «кавм» («народ»), надо — «кум» («песок»); напечатано «хар бири» («каждый»), надо — «хар пари» («каждое его перо») и т. п.
Но даже и при правильной транскрипции в изданиях, основанных на современной узбекской графике, возможны ошибки такого же рода из-за неверного прочтения слова, имеющего омонимы. Так, например, слово «суз» может означать: 1) «слово», «речь»; 2) «горение». Поэтому первый стих в бейте 3347 может быть прочитан двояко: 1) «После него никто не обрел таких же слов, как я»; 2) «После него никто не обрел такого же горения, как я». И переводчик должен опять-таки обосновать свой выбор!
В подобных случаях и в других затруднениях мне существенно помогла работа над текстом уже готового перевода в содружестве с редактором Р. М. Маджиди. В нашей совместной работе по уточнению смысла перевода бывали различные ситуации: в одном случае я беспрекословно соглашался с более правильным чтением, в другом — настаивал на своем варианте, в третьем — мы сообща искали возможности осмысления неясных отрывков текста поэмы. Для характеристики того, сколь значительна была помощь редактора, приведу некоторые цифры. Из общего числа бейтов 3598 более чем в двухстах случаях между нами возникали споры о смысле, заложенном в том или ином стихе. Около 70 бейтов было мною исправлено по замечаниям Р. М. Маджиди. Свыше 80 бейтов я оставил в прежнем виде, убедив редактора в правильности своего чтения. Более чем в 50 бейтах мы достигли понимания смысла в результате наших совместных поисков, споров и рассуждений.
Приведенных фактов, по-видимому, достаточно для того, чтобы показать, насколько кропотливой бывает подчас работа переводчика по извлечению смысла из тех мест текста, которые «затемнены» для современного читателя вследствие различных причин — из-за непонятности реалий отдаленного от нас веками времени, из-за трудностей языка, на котором в наши дни уже никто не говорит, из-за ошибок, вкравшихся в текст в результате оплошностей каллиграфов, переписывавших древние рукописи, или вследствие непонимания ими копируемого текста (бывало и такое!) и т. д. и т. п. Иначе говоря, еще до того как переводчик приступит к воссозданию оригинала на своем языке, он должен провести напряженную работу по уяснению «вербального» смысла текста. И когда такая работа осуществлена, невольно приходит в голову мысль: сколько может быть одних лишь смысловых ошибок при переводе не с оригинала, а с подстрочника! Трудно предположить, что во всех случаях составитель подстрочника (а такой работой квалифицированные филологи, как известно, занимаются весьма неохотно) мог достаточно компетентно толковать оригинальный текст и извлекать из него именно тот смысл, который был заложен автором.
2
Но для основной работы переводчика — работы по художественному воссозданию произведения — одного лишь «вербального» понимания текста, сколь бы ни был сложным и ответственным этот этап работы, недостаточно. Необходимо еще понять характер и функцию всех элементов художественной структуры произведения. Чрезвычайно существенны вопросы, связанные с пониманием интонации стиха восточных поэтов. При этом одинаково важны и проникновение в интонацию в плане ее отношения к мелодике стиха, и особенности интонации как определенного эмоционального отношения поэта к тому, о чем он говорит в своем произведении. Путь к уяснению интонации может быть только один — настойчивое изучение строя языка, ритма и мелодики уже предварительно понятого и истолкованного «для себя» текста, понимание духа поэзии данного автора и традиций поэтического творчества его народа.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: