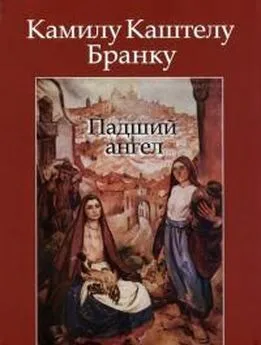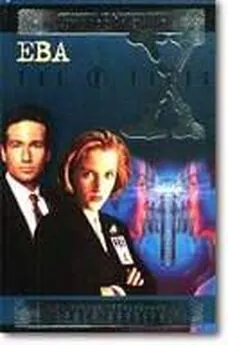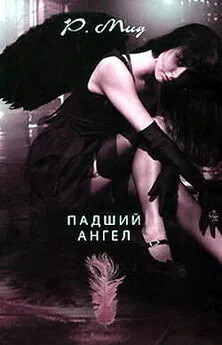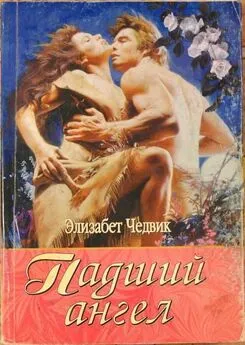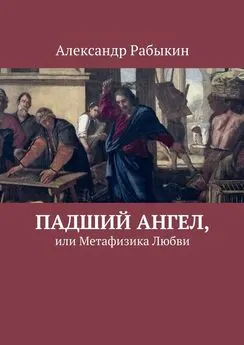Камилу Бранку - Падший ангел
- Название:Падший ангел
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:2011
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-02-025569-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Камилу Бранку - Падший ангел краткое содержание
Падший ангел - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Однако литературная предыстория Калишту Элоя не исчерпывается сервантесовскими реминисценциями. Склонность главного героя «Падшего ангела» к моральной проповеди указывает еще на один литературный прототип. Это — Альсест из комедии Мольера «Мизантроп» (1666). Как отмечает Ж. Праду Коэлью, соединение черт Дон Кихота и Альсеста усложняет образ Калишту Элоя — «несмотря на крайности его поведения, мы ощущаем, что он воплощает в себе единственную силу, способную противостоять порче нравов и утрате национального чувства ‹…› Поражение, которое Калишту терпит от современного светского общества, с точки зрения мыслящего читателя, становится болезненным поражением». [37]По мнению Э. Родригеша, эта гипотеза подкрепляется также изображением парламентского единомышленника Калишту Элоя, «снисходительного» аббата Эштевайнша, роль которого в структуре «Падшего ангела» соответствует роли Филинта в «Мизантропе». [38]
Сюжетообразующие конфликты «Дон Кихота» и «Мизантропа» оказали возможное влияние и на решение любовной линии в «Падшем ангеле». В этом решении К. Каштелу Бранку решает прибегнуть к помощи парадокса — но его парадокс приобретает не ситуационный характер, как в «Мизантропе» (ошибочное взаимовосприятие Альсеста и Селимены), а становится следствием иронической игры автора. Герои и их отношения предстают в романе в неожиданном, но внутренне логичном освещении; тем самым К. Каштелу Бранку приводит читателя к мысли об относительности любого канона — как литературного, так и нравственного.
Если обратиться к литературным прототипам персонажей «Падшего ангела», то мы обнаружим, что Сервантес изображает влюбленность Дон Кихота как доведенную до логического конца куртуазную модель поведения. Условность идеального образа Дульсинеи Тобосской осознают не только автор и читатели «Дон Кихота», но и протагонист романа (по мнению О. А. Светлаковой, она «предстает как художественная правда в ее не всегда ясном соотношении с правдой факта»), [39]а в «Падшем ангеле» литература оказывается первичной по отношению к объективной реальности лишь в случае неудачной влюбленности в дону Аделаиду — в гл. XX К. Каштелу Бранку подчеркивает, что поведение протагониста «Падшего ангела» вполне соответствовало модели, которой придерживается герой Сервантеса. Когда речь идет о доне Ифижении (гл. XXV—XXVI), литература оказывается вторичной по отношению к реальности — имя этой героини удовлетворяет художественным вкусам героя, а ее дальнее родство с Калишту Элоем — его чувству фамильной чести.
Д. Фрайер отмечает, что к середине 1860-х гг. португальский читатель уже привык к существующему в творчестве К. Каштелу Бранку противопоставлению «роковой женщины» и «женщины-ангела». [40]Первое из этих определений действительно встречается в «Падшем ангеле» применительно к доне Ифижении (гл. XXIV), но дальнейшее развитие ее характера позволяет отнести ее ко второму женскому типу. Напротив, образ доны Теодоры Фигейроа постепенно начинает соответствовать ультра-романтическим канонам, что позволяет К. Каштелу Бранку создать комическую сцену (гл. XXXIV), в которой, однако, поведение героини выглядит внутренне органичным. Таким образом, чувство, обладающее внешними признаками возвышенной романтической страсти, находит нарочито сниженное разрешение. Можно говорить о том, что дихотомия «литература — объективная реальность» в «Падшем ангеле» сменяется дихотомией «добродетель — объективная реальность»: добродетель существует лишь постольку, поскольку она не подвергается испытаниям.
Повествовательная структура романа имеет линейный, т. е. традиционно-эпический характер. Такой прием не совсем типичен для произведений К. Каштелу Бранку конца 1850 — середины 1860-х гг., в которых он часто применяет аналепсис — «средство, удобно позволяющее повествователю просветить читателя относительно обстоятельств, предшествующих определенной ситуации». [41]По мнению В. М. Агиара-и-Силвы, в романтическом романе аналептическая структура повествования выполняет прямо противоположную роль — она до определенного момента позволяет скрывать обстоятельства, сформировавшие характер героя и приведшие к изображаемым событиям. Например, этот прием лежит в основе повествовательной структуры романов «Анафема» и «Лиссабонские тайны» (1854—1855), но в своих произведениях 1860—1870-х гг. К. Каштелу Бранку применяет аналепсис достаточно выборочно — либо в «повестях о страсти», например в «Ужасающих деяниях» (1862) и в «Портрете Рикардины», либо в исторических романах, например во «Владельце дворца Нинайнш» (1867) и в дилогии «Цареубийца» и «Дочь цареубийцы» (1874—1875), т. е. в тех разновидностях жанра, где уже существовали устойчивые правила, выработанные в период господства «неистового романтизма».
Обращает на себя внимание то, что в «Падшем ангеле» К. Каштелу Бранку отказывается от какого-либо пролога. Обычно он использует два типа вступления — либо выступает как издатель «подлинных» документов («Пагубная любовь»; «Сердце, голова и желудок» (1862); биографическое сочинение «Мария да Фонте»), либо пересказывает якобы услышанную от случайного собеседника историю («Роман о богаче»; «Роковая женщина» (1870); «Книга об утешении»; некоторые из «Новелл о провинции Минью»). Таким образом, своеобразный «пролог издателя» или «рассказчика» мы встречаем и в произведениях К. Каштелу Бранку, хронологически следующих за созданием «Падшего ангела», но постепенно этот литературный прием будет встречаться в его романах все реже, поскольку такой тип сюжетной мотивировки становился с течением времени все более шаблонным и уже не обладал достаточной силой внушения в глазах читательской аудитории.
Своим творческим успехом К. Каштелу Бранку был во многом обязан умению выстраивать сюжет. Он отдает предпочтение так называемой «закрытой структуре», которая сочетает логическую и хронологическую последовательность событий, и тем самым ориентируется на массового читателя, «который ожидает от романа прежде всего развлечения и предварительного удовлетворения своего любопытства, испытывает сильное разочарование из-за финала „открытого“ романа, так как ощущает нехватку заключительной главы, в которой обычно содержатся сведения о браках и семейных радостях героев романа…» [42]Положение профессионального литератора закономерно вынуждало К. Каштелу Бранку думать не только о коммерческом успехе своих произведений (и вследствие этого о том, чтобы читатель не испытал разочарование), но и об отношениях, возникающих между повествователем и читателем.
В романах К. Каштелу Бранку количественно преобладает тип повествователя, классифицируемый В. Шмидом как «непричастный очевидец». В «Падшем ангеле» и, спустя немногим более десятилетия, в «Командоре» и «Побочном сыне» из цикла «Новеллы о провинции Минью» этот образ приобретает качества «очевидца-протагониста». [43]Например, в гл. X «Падшего ангела» К. Каштелу Бранку упоминает, что его герой знаком с творчеством своего создателя, а в одном из эпизодов «Побочного сына» мы обнаруживаем своеобразную контаминацию Калишту Элоя и повествователя — последний сообщает о себе: «Я надеваю очки, нюхаю табак и читаю у Овидия и в „Теогонии“ Гесиода, что Стыдливость, как только увидела, что язва порока распространилась среди рода человеческого, вознеслась на небеса вместе со своей сестрой Справедливостью». В отличие от героя «Падшего ангела» К. Каштелу Бранку не нюхал табак и носил пенсне; перенос привычек приобретшего к этому времени широкую известность в Португалии литературного персонажа на повествователя сообщал последнему неожиданно конкретизированные черты и не давал читателю оснований идентифицировать реального автора с рассказчиком как одним из элементов повествовательной структуры.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: