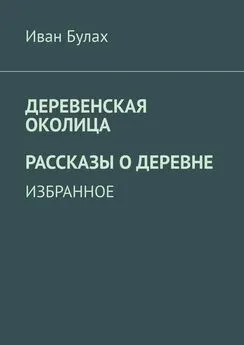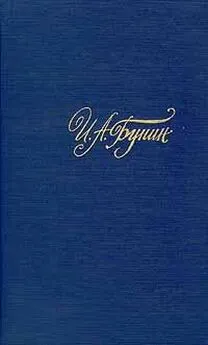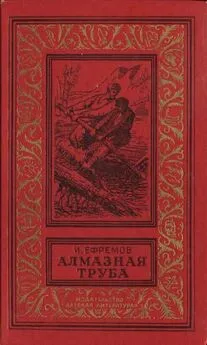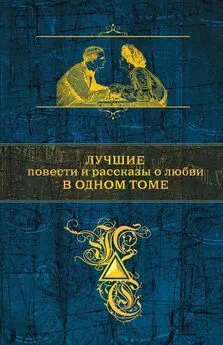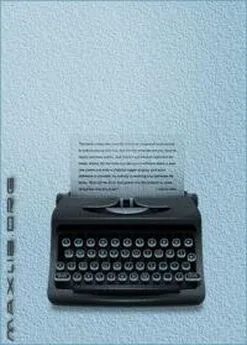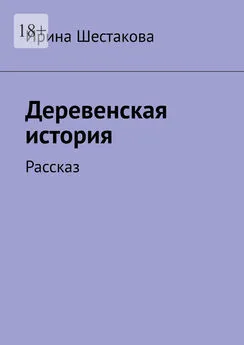Иван Булах - Деревенская околица. Рассказы о деревне
- Название:Деревенская околица. Рассказы о деревне
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Булах - Деревенская околица. Рассказы о деревне краткое содержание
Автор этой книги продолжает традиции В. М. Шукшина: он тоже «деревенщик», а наблюдательности ему не занимать. Он говорит живым и самобытным языком простого народа, который в деревне духовно чище и меньше испорчен.
Деревенская околица. Рассказы о деревне - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Дедушка, а почему говорят про какой-то медовый Спас, это что — праздник мёда?
— Не совсем так, парень, хотя в твоих словах и есть правда. Старые люди передали нам, что медовый Спас появился на Руси ещё со времён её крещения. И праздновался он в первых числах августа по старому стилю, а сейчас бывает в середине месяца. Медовым Спасом его называют потому, что к этому дню в ульях все соты забиты мёдом. В старину ели только тот мёд, который освящён церковью, но сейчас этого давно не придерживаются.
— И всё равно непонятно — почему Спас? Что, мёд спасает?
— А вот ты послушай и подумай над тем, что скажу. Ещё моему деду довелось читать в старинных книгах, из чего получается мёд. «Сок от росы той, что пчёлы собирают с цветов благоухания». Жизнью проверено — мёд, воск, прополис, перга, маточное молочко и пчелиный яд обладают особой силой и лечат многие болезни. В цветении деревьев, трав и цветов зарождается новая жизнь, а проще — живительная сила. Поэтому мы исстари лечимся травами, мёдом, да ещё нашей русской банькой. Вот тебе и медовый Спас. А есть ли лучшее лакомство, чем янтарный мёд?
— Но есть же ещё ягоды, яблоки, сахар и виноград.
— К твоему сведению, парень, про виноград мы на Руси долго не слыхивали, сахар вообще появился только при царе-батюшке Петре I. А вот медовые пряники и коврижки, как мёд и мёды мы ели и пили задолго до Рождества Христова. Мёды пили на пирах, но это только так говорится. Сам мёд не пили, это только для красного словца сказано. Просто выдержанную месяцами, а то и годами хмельную бражку-медовуху и пили.
Неизвестно, что бы ещё рассказал дед, но вдруг спохватился и стал собирать свой нехитрый багаж.
— Однако я заболтался, вот и к своей станции подъезжаю, — стал со всеми прощаться: — Бывайте здоровы, храни вас Господь.
— Дедушка, а звать-то тебя хоть как?
— Просто, парень, Михайло Иваныч. Сорокины мы. Часом кто будет в Смолянке, спросите, вам любой нашу пасеку укажет. А уж добрым гостям мы завсегда рады. Ну, ещё раз прощевайте.
Ушёл Михайло Иванович и, честное слово, даже как-то жалко стало, что расстались с таким чудаковатым, но добрым и умным попутчиком. Ушёл он, а запах мёда, духовитой травы и жаркого лета ещё долго оставался.
Все притихли. Когда поезд тронулся, опять заговорили:
— Слушайте, всё это про пчёл правда или сказка?
— Правда, всё это. Я сам держу пять ульев и немного в этом разбираюсь. Но так о них говорить, всё до тонкостей понимать, это какой же надо иметь талант, чтобы их так любить!
— Да бросьте вы, нашли о чём вспоминать. Вот я и говорю, демократы победили, но их ошибка в том, что сразу у них пошли разногласия, разделились на партии, блоки, нет единства…
— Иди ты к чёрту со своей политикой и партиями. Правильно сказал дед, — нет никаких партий, а есть две категории людей: те, кто работают, и кто воруёт, языком мелет, да власть делит.
Появился контролёр, стал проверять билеты. Кто-то спросил:
— Интересно, у пчёл есть ревизоры, если так честно живут?
Никто не ответил. Каждый думал о своём.
ПАМЯТЬ
Жил у нас в Покровке Леонтий Матвеевич Туманов, а работал в зверопромхозе охотником-промысловиком. Как только началась война, он ушёл на фронт и был снайпером. Как охотник-промысловик сутками выслеживать зверя, только о двух ногах. Несколько раз был ранен, но сибиряки народ крепкий — дошёл до Берлина. Вся грудь в наградах, включая ордена Отечественной войны всех трёх степеней, а это считай — Герой! И это не считая других медалей. Его винтовку с насечками, которыми он помечал убитых фашистов, даже поместили в музей воинской славы.
После войны опять пошёл работать охотником в зверопромхоз, чтоб всегда был свой кусок. Прошло больше десятка лет, и всё было хорошо, только вдруг пришла беда. Вначале утонул в реке его сынишка Петька, а потом неожиданно заболела и умерла жена. Остался Леонтий Матвеевич один-одинёшенек. А как же он хотел, чтобы добрая память о Тумановых у земляков осталась и продолжалась в его сыне, Петьке. А вот как всё обернулось.
Видать горе его так скрутило, что второй раз он жениться не стал, и вообще никого не хотел видеть. В деревне появлялся редко, и только по делам. От силы неделю побудет на людях, погрузит в мотоцикл «Урал» нужные припасы, и только его видели.
Летом жил на заимке и занимался своими пчёлами, а зимой месяцами пропадал в горах на охоте. Там у него было несколько избушек, где он и коротал зиму. Промышлял зверя: лисицу, волка, ещё Сельсовет иногда просил его убить медведя-шатуна, который нападал на скот, или летом зорил колхозные пасеки. Но больше охотился на пушного зверька: белку бил в глаз, ставил ловушки на соболя, куницу, горностая, не брезговал и зайцем. И всё время жил один, как отшельник, и это его устраивало.
Но два раза в году он подолгу жил в деревне. По весне сдаст пушнину на склад зверопромхоза, получит деньги идёт в магазин. А продавцы заранее подготовят одежду и обувь на лето. Оденется с головы до ног, соскребёт бороду, подстрижётся, и недели две живёт в деревне. Обязательно ходил на кладбище проведать жену и сына. Обязательно приходил в школу, встанет у ограды и по долгу смотрит, как бегают ребятишки в переменку. Догадывались, — представлял, каким бы уже стал его сынишка Петька. Несколько раз спрашивал у директора, — сколько надо денег на новую школу, и обещал помочь, а как — никто не догадывался.
Осенью тем же манером, только уже идёт в сельпо. Сдаст мёд и воск, получит деньги и знакомой тропкой шагает в магазин. Только теперь справляет всё на зиму. Опять пару недель поживёт среди людей, переждёт осеннюю распутицу, а как установится дорога, грузит продуктами и охотничьим припасом мотоцикл, и опять пропадает в горах несколько месяцев. Ещё все заприметили за ним одну чудинку — говорил часто одно и то же: «По деньгам хожу, а впроголодь сижу». Деньги у мужика водились не малые, да и голодом он никогда не сидел. К чему бы это?
В селе за его домом приглядывала соседка, многодетная вдова Мария Стрельникова. Держал он две коровы, за которыми она и ходила. Давал ей деньги, чтобы купила сена, а ещё наняла мужиков, привезти его в деревню. От одной коровы молоко и приплод были её, а от второй — Леонтия Матвеевича. Его телят она по осени сдавала в сельпо, а молоко её дети носили и сдавали на молоканку. Там раз в месяц получали для него причитающийся сыр и масло, а старшие ребятишки летом отвозили на заимку.
Кроме этого, был с мёдом. С мукой тогда было плохо, но пушнина была в цене, так как шла на международный аукцион в Ленинград, поэтому охотникам зверопромхоза выделялась мука вместе с охотничьими припасами. А уж мясо у охотника есть всегда, и река под боком — был с рыбой. При этом жаловался, что по деньгам ходит, а голодом сидит. Ещё поговаривали, что и он ни без греха — летом бил маралов, мясо коптил, а панты обрабатывал и куда-то сбывал. Одним словом — чудной был мужик.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: