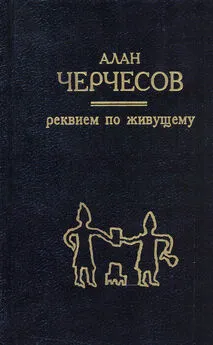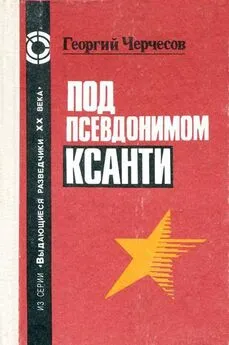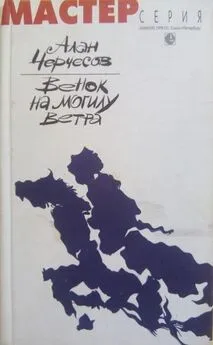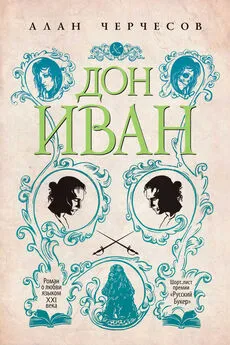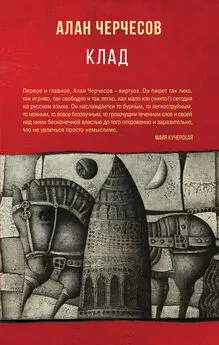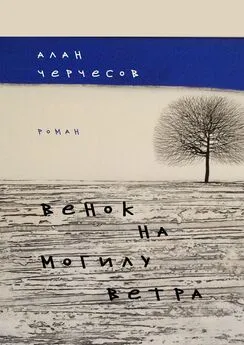Алан Черчесов - Реквием по живущему
- Название:Реквием по живущему
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство имени Сабашниковых
- Год:1995
- Город:Москва
- ISBN:5-8242-0037-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алан Черчесов - Реквием по живущему краткое содержание
Реквием по живущему - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Напоследок я сказал: «Почему ты его не отпустишь? Он так постарел, что в нем остались лишь бессильная злоба да стыд за нее. Ну и, конечно, ненависть, из-за которой он презирает себя, потому что вынужден издохнуть на цепи у твоих ног. Отпусти его. Он тебе больше не нужен. Он ведь не пес. Дай умереть ему волком...» Я выдержал его взгляд, а потом выбрался вон. Обратно я бежал во весь опор, стараясь поспеть до заката. И, хоть до заката я не успел, отец в тот вечер притворился, что не заметил моего отсутствия.
А ночью я вылез из спящего дома, вскочил на забор и увидел блики света из его приоткрытой двери. Я вгляделся во тьму, но волка на дворе уже не было. И тогда я внезапно понял, что заставило меня его об этом просить. Было очень темно, но я почувствовал, как густо краснею. Только не мог бы еще себе объяснить, в чем тут причина: в том ли, что предложил Одинокому сменять зверя на меня самого, или в том, что, предложив ему это, я обманул...
Ибо в ту ночь, вернувшись в постель и будучи врасплох застигнут теплом своего дома, я мысленно поклялся, что никогда не стану рисковать его уютом ради чьего-то сумасбродного (я помню это слово и сладкий вкус на языке оттого, что удалось его сыскать и сделать все простым и ясным) одиночества. Я успокаивал совесть тем, что не отречься от него означало бы предать собственного отца, а может, и покойного деда,— ведь он тоже устранился,— тогда еще, когда не ведал и сотой доли того, во что был нынче посвящен его внук... К рассвету я убедил себя окончательно. Было это нетрудно: его и вправду никто никогда не любил. Так устранился я. И полагал в тот день, что — навсегда...
Только через месяц все опять опрокинулось с ног на голову. А потом Одинокий ушел...
Сейчас я вам расскажу. Осталось совсем немного. Я расскажу вам про Лану и землетрясение. Ну а потом уж и он ушел...
Было ей уже за двадцать, но замуж выйти она так и не успела. И не потому, что была как-то особенно некрасива, наоборот, многие из ее сверстниц могли бы позавидовать белой гладкости лика и хрупкому стану, стянутому узким пояском, которого другим хватило бы разве на то, чтобы обернуть им запястье. Однако с тех пор, как из послушной грустной девочки она превратилась в девицу на выданье, сваты упорно обходили Сосланов дом, если не считать единственного раза, когда их к нему даже не подпустили.
Случилось это года три назад в промозглый мартовский день. Уже с раннего утра мужчины нашего аула, облачившись в чистые черкески и надев под бурки надраенные сыновьями кинжалы, высыпали на нихас и после короткого совещания, выставив на дороге дозорных, вернулись в свои хадзары и принялись ждать, кидая время от времени суровые взгляды на стены, где висели тщательно смазанные жиром ружья, готовые дать отпор чужакам, покусившимся, по слухам, на то, на что ни один из наших покуситься даже не отваживался, хоть Сослан им того не запрещал и, скорее всего, к десяти их попыткам из дюжины или к двум десяткам из трех точно отнесся бы снисходительно, а в четверти случаев — так и вовсе благосклонно, попроси они руки его приемной дочери. Загвоздка была только в том, что никто из них никогда на это не посягал, несмотря на то, что девушка была хороша собой и достойно воспитана достойным отцом. Возможно, кому постороннему и пришло бы на ум, что причина кроется в том, как она этим отцом обзавелась и от чьей плоти была зачата, ведь тому, кто это знал, понадобилось делать из нее подкидыша и избавляться от младенца раньше еще, чем в душе его проснулась память о родителях настоящих. Кому постороннему, наверно, и пришло бы на ум нечто подобное, но, стоило ему ее увидеть, и этот домысел отпал бы сам собой.
Ибо была она невероятно, волшебно, несказанно красива. То есть красива настолько, что единственного взгляда на нее — коли это взгляд мужчины — было достаточно, дабы вмиг забыть и про подкидыша, и про то, что ей когда-нибудь суждено стать чьей-то женой и чьей-либо матерью. Потому как не было в целом свете женщины прекраснее нее, как не было на свете и другой девушки на выданье, столь неподходящей для брака. Неподходящей не вопреки красоте своей, а благодаря ей и из-за нее. Короче, красота ее не только восхищала, но и отпугивала тех, кто когда-либо глядел на нее глазами мужчины, и не только не раздражала, не только не вызывала ревности, но и пробуждала жалобное сочувствие у тех, кто приходились ей сверстницами и большинство из которых уже успело благополучно выйти замуж и родить детей. В общем, когда вдруг наши прознали, что из соседнего ущелья к ним засылают сватов, все как один решили встать на защиту того, на что сами и не покушались и что, как им казалось, было чем-то вроде их общего достояния — они решили встать на защиту ее красоты, которую дозволено было лишь созерцать, а не присваивать, тем более — какому-то ветреному чужаку, что даже и оценить-то ее был не способен. Вот что оскорбляло больше всего — не способен был оценить, иначе ни за что бы в мозгу его не вызрела мысль на ней жениться! Для наших она была равносильна самому тяжкому преступлению или буйному помешательству. Пожелать жениться на Лане — это все одно что захотеть накинуть петлю на радугу, собрать в бурку все звезды или съесть заживо водопад. А суметь жениться на ней — все одно что осквернить плевком небо, придушить радугу или запить водопадом звезды. Это было так же нелепо и невозможно, как изнасиловать всех женщин на земле или истребить разом весь род мужской. Жениться на ней — значило опорочить святыню, ибо красота ее была столь совершенна и окончательна, что каждый из нас, от мала до велика, читал в ней грядущую обреченность, с которой нельзя породниться так же, как с мимолетным мгновеньем или с озарившей ненастье молнией. И посягнуть на обреченность было гадостью, немыслимым кощунством, против которого восстали мы плечо к плечу, когда раздался свист дозорных. Мы выстроились по дороге грозной цепью, сомкнувшись общей опасностью и общей честью, и остановили их повозки общим молчанием, не унизившимся ни до слов, ни до разъяснений, так что те, чужаки, попытавшись было сперва уластить его вежливой трусостью, очень скоро откланялись и покатили назад, восвояси.
В тот день мы были сильными настолько, что еще прежде, чем воротились каждый в свой хадзар, возненавидели день завтрашний, потому что знали: такими сильными бывают только раз. Потом приходят будни. Приходят будни и начинают копаться в мелочах. Будни копаются в мелочах и с головой погружаются в мелочность. Такие будни длятся очень долго. Три года для них — совсем не срок...
А спустя три года разражается беда и уносит в ледяном потоке обреченную красоту, которую когда-то сильные мужчины отстояли, встав плечо к плечу...
Да что о том говорить! Мы просто ослепли. А тот из нас, кто ослеп гораздо раньше — но не сердцем, а изъеденными бельмами глазами, кто ослеп не буднями, а горем, но двадцать с лишним лет назад, обернув зрачки к себе в душу, умудрился предсказать весь этот кошмар,— он ослеп потом снова — уже от счастья, от посланного богами нового отцовства, так что с великой радости такой, забыв свои пророчества, был теперь столь же немощен предугадать, как и полоумный сухорукий старик с телом юноши, что не мог учуять даже грустившей у него под самым боком жизни, обязанной ему невольно кровью, согревавшей ей жилы, и собственной обреченностью, ради которых и искала нас беда столько лет, чтобы затем, объявившись в ауле, предстать перед нихасом с веселой улыбкой и не заставить нас даже насторожиться, потому что тот, кто только и мог ее распознать, ослеп от своего одиночества и, сидя в своем дворе, играл тоску на свирели, изматывая ею дряхлого полуслепого зверя, в котором силы осталось разве что на один последний прыжок, а потом, ровно через месяц, отсыпался в пустых стенах после выпитой араки и не только ничего не видел, но и не слышал, опоздав навсегда к возопившей о помощи родине и к праву жить на ней впредь. И когда земля, застонав от боли, всколыхнулась под нами и побежала трещинами к вспенившейся реке, а там разверзлась — в том самом месте, куда сорвалась девушка с моста,— взломала русло и на какое-то мгновение поглотила в открывшемся чреве бешеный поток, а потом, словно подавившись грешной водой, изрыгнула ее обратно, выплеснув волны на берег и обдав нас проклятой их злобой, когда солнце налилось алой кровью и нестерпимо палило, сжигая гулом наполненный воздух, когда от женских воплей и криков детей спекшееся в черный прах время пустило с неба пепельную крошку, похожую на грязный снег, когда запахом гари он разъедал нам глаза и мы увидели густой, в точках, туман, когда туман заслонил от нас солнце и реку, а потом внезапно рассеялся, и настала пронзительная, как визг, тишина,— Одинокий стоял перед ней на коленях и воздевал к небу руки... Он стоял перед тишиной на коленях и беззвучно плакал, потому что небо опять его не убило. И почему-то все мы, сгрудившись в огромный общий страх на аульной улочке, прижавшись друг к другу в объятиях и слыша, как бьется от ужаса одно на всех большое сердце, глядели на его молитву и видели его причастность, которую он даже не скрывал, хоть и не знал еще, что мы осиротели Ланой. А потом он поднялся и медленно побрел к себе, и мы опять услышали свои голоса и женский плач, в котором было теперь больше восторженной радости, чем горя, потому что все уже кончилось и ничего вокруг не изменилось, кроме мокрой потрескавшейся земли да черного праха на ней. Он впивал в себя влагу и превращался в жирную сажу. Когда мы шли по ней, ноги скользили, как по обычной слякоти. Река не успела разбить нашего берега и даже не смыла моста. Дома стояли почти невредимы, кое-где уронив из стен лишь немного глины да горсть плитняка. Мы были живы. Все мы были живы, и только Ланы уже с нами не было.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: