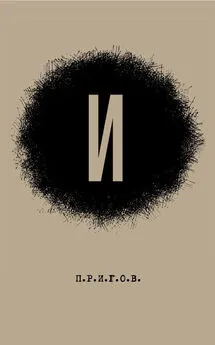Дмитрий Пригов - Мысли
- Название:Мысли
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1055-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Пригов - Мысли краткое содержание
Мысли - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я думаю, это явление уровня Венедикта Ерофеева, Владимира Сорокина, Лимонова, Саши Соколова, хотя, конечно, трудно ранжировать ушедших авторов с продолжающими писать, поскольку последние могут кардинально изменить и свой имидж, и свое творчество, и свое место в литературе. Во всяком случае, Харитонова можно смело назвать в десятке имен, представляющих русскую литературу XX столетия.
Сложен вопрос о презентабельности Харитонова для западного читателя. Он вполне переводим, но его творчество не входит в разряд бестселлеров, и вряд ли оно сможет заинтересовать, удивить или шокировать массового читателя.
Нога
1984
В бытность свою студентом художественного института предпринял я поездку в Узбекистан и попал там в Фергану, а там — в Худфонд, а там (по причине уважения ко всякого рода столичности) — на худсовет. И вот в череде многих (не очень многих) входит человек-художник: весело и добродушно полупьян, полуприсыпан табачным пеплом и вечной неотвратимой ферганской пылью, полупомят в лице и костюме, с полуполным зубами ртом, и вносит достаточного размера портрет вождя Маркса, срисованного вприглядку с крохотулечной (в наше-то время!) черно-белой фотографии из какой-то местной газеты. Ну, дело у нас, вернее — у них, художников, привычное. Все идет нормально-хорошо: и похож, и цвета вполне нераспознаваемого, чтобы можно было к чему-нибудь там придраться, — все нормально, все хорошо. Тут одному — и даже не очень любопытному — члену совета приходит в голову вполне естественный и в то же самое время абсолютно нелепый вопрос. «А почему, — спрашивает он, — глаза голубые?» (И действительно, они, глаза, горели, как снежные вершины недосягаемых гор, обжигаемые лучами неземного солнца.) «Как почему? — естественно, удивляется творец. — Ведь он же ариец!»
Курьез? Курьез ли?
Читая газеты, смотря телевизор, слушая радио, просто прислушиваясь к разговорам на собраниях и неспециальных сборищах, в транспорте, подслушивая (каюсь, с немалым интересом) через прозрачные железобетонные перегородки квартир домашние свары и звуки быта под аккомпанемент нынешней музыки, сочувствуя старушке, увещевающей школьного усача: «А еще пионер!», сочувствуя в безумном матерном вопле болельщиков за «наших» супротив «ихних» (врагов), обнаруживаем мы вполне понятный, вполне самостоятельный, вполне цельный язык, обеспечивающий не только сферу осмысленно-целесообразного и идеологически целенаправленного его употребления, посреди свар, семейных перипетий, нежностей, пьяных бормотаний, истерических выкликов, бессознательных реакций, клятв и яростных схваток — то есть всего синхронного среза жизни. Язык вполне обозримый, единый, различимый и понятный и, как показывает опыт современной поэзии, вполне неприемлемый для большинства работников поэтической кухни, предпочитающих и прямо противопоставляющих ему свой, вполне обжитой, обеспеченный чужим (почти двухвековым) опытом борьбы и соитий с черным языком житейской прозы, язык литературный, почитая его не только за язык описания сакрального прообраза мира, но и за ключ перевода этого прообраза в реальные картины и события реальной нашей жизни. Поборники его, выискивая в нашей действительности корреляты этого языка, если и не находят их, то пытаются хотя бы сами быть идеальными героями его, приписывая всему остальному, что не совпадает с их идеалами, признак небытия, и посему почитают себя лишенными всяких как эстетических, так и этических обязательств по отношению к этому небытию. А язык этого небытия определяется как некий фантом, наваждение, которое можно изжить благодаря благодати истинного языка, преодолеть одной силой возвышенного желания, страстью волевой идеи. В менее пафосном варианте язык этот воспринимается как некая газетно-телевизионная латынь, не имеющая никаких корней, но моросящая сверху, разжижающаяся по мере схождения с идеологических высот, становящаяся (в случае редкого, ущербного, аномального, незаконного выживания) неким волапюком, дающим право быть воспринятым вполне несерьезно (не в смысле возможного с его стороны насилия, а в смысле жизни истинной), как языковая шелуха, язык-паразит, не отражающий никакого экзистенциального содержания и могущий служить предметом декоративной стилизации или артистических сарказмов, адекватная реакция на которые в среде любителей высокой словесности обеспечена, так как подобным сарказмом воспринимается любое обращение к такого рода теме, то есть она сама уже есть пародия на некую истинную жизнь (примером тому может служить отношение к творчеству поэта Исаковского).
Но мы здесь говорим вовсе не о бумажном макетике, легко переносимом с места на место, а при желании — просто удаляемом из приличного общества. Нет. Речь идет о феномене, возникающем на пересечении жесткого верхнего идеологического излучения и нижнего встречного, поглощающего и пластифицирующего все это в реальную жизнь, жизнь природную. Наиболее верное и точное определение этого появилось, кстати, в последнее время — реальный социализм. И если научно-коммунистическое и диссидентское сознания (в соответствии с их целями и направленностями) акцентируют внимание на понятии «социализм», уже в нем самом полагая либо его реальность (обращая определение «реальный» в тавтологически художественный прием усиления), либо его нереальность (то есть реальность со знаком минус), то лично мы имеем в виду именно «реальный социализм». (Еще проще: как Советское Шампанское есть ни Шампанское, ни Советское, но — Советское Шампанское.)
Только в пределах очерченного нами контекста сможем мы определить истинное звучание современного языка, его претензии, его реальное значение и реальные значения, его пустоты и затвердения, его провалы и воспарения перед лицом простого быта и вечных истин, которые (вечные истины) сами в этой очной ставке должны будут доказать свои претензии, судить и быть судимы во взаимной нелицеприятной строгости. А то зачастую они оказываются культурными шкурками, и поэты, страдающие над ними, выглядят (за пределами чисто человеческих переживаний, которые вызывают естественное сочувствие) просто гурманами и жонглерами над пропастями, которые нельзя завалить призраками, но лишь реальными телами. И сие есть соблазн забежать за широкую спину культуры (а философ сказал, что она сама всегда за нашей спиной — но в другом смысле) в ее функции сакрального прообраза мира, то есть забежать и утвердиться в сакральном сакрального. Но если и существует такое номенклатурное место, то оно не художницкое, хотя бы и существовали, выпадали оттуда в наш мир словесные или какие другие отходы неземных трудов, схожие с произведениями искусства и могущие быть профаническим сознанием истолкованы и обжиты (как пустые раковины моллюсками) в качестве произведений искусств. Но подобное совпадение чисто формальное — налицо векторная прямопротивоположнонаправленность. Подобный же возвышенный обман объявляется и в схеме Флоренского с его восхождением и схождением обратно в мир художественного сознания. Но художник не живет в чистой созерцательности, а в борьбе и соитии с диктующим, самостийным, до конца необоримым и наперед не угадываемым материалом, в виде которого в искусство является жизнь. Именно здесь и происходит подмена, когда на это место (по причине трудности узнавания жизни в лицо, являющейся инкогнито, под видом материала) полагают культуру, пытаясь произвести на свет вытяжку из вытяжки. Как-то, помню, сын в младенчестве просил рассказать сказку «про зайчика, только никаких волков, лисов и медведев, и живет зайчик на асфальте, и фонарь горит яркий, и у мамы он один сыночек…». (Вариант теории бесконфликтности в ее культурологическом аспекте.)
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: