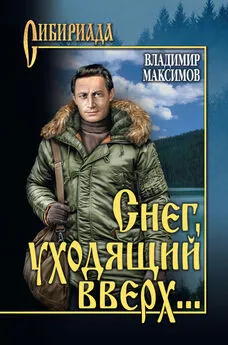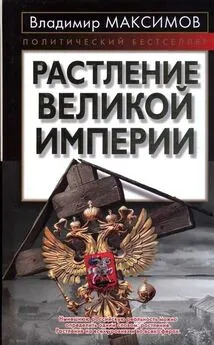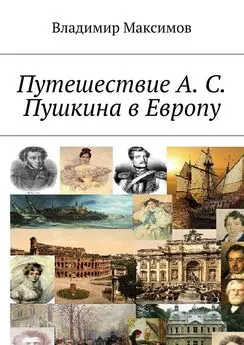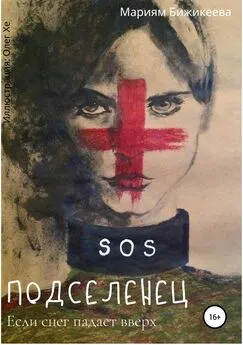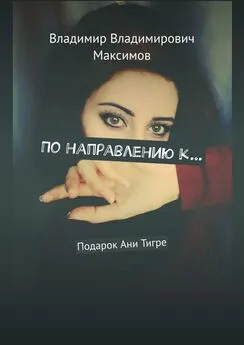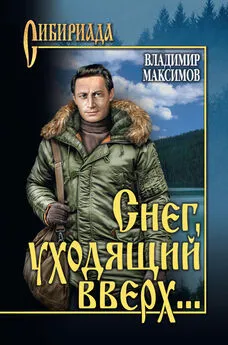Владимир Максимов - Снег, уходящий вверх…
- Название:Снег, уходящий вверх…
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Вече
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4444-8978-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Максимов - Снег, уходящий вверх… краткое содержание
Здесь и романтика юности, жажда познания мира и самих себя, охватившие героев повести «Мы никогда уже не будем молодыми» – сотрудников Иркутского лимнологического института, отправившихся в свою первую настоящую экспедицию на Байкал. И спокойное, умиротворенное погружение в воспоминания в кругу старых друзей, нежданно выбравшихся вместе на несколько дней отдохнуть вдали от городской суеты на старой биостанции со смешным названием Верхние Коты – в повести «Пристань души». Это и три дня поминовения – три дня почти языческой тризны по безвременно ушедшему близкому другу, оставившие неизгладимый след в душе главного героя повести «Два букетика синих ромашек». И наконец, прекрасные, яркие и пронзительные сцены-зарисовки сибирской жизни в рассказах «Загон», «Снег, уходящий вверх…» и «Рекорд в подарок».
Снег, уходящий вверх… - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Жилище… Это звучит, пожалуй, странно хотя бы потому, что в этой узкой, сумеречно-прохладной пади никто не живет. Вернее, в ней живет только ветер. Даже звери почему-то избегают ее.
Кто назвал ее так?
Почему?
Неизвестно.
Падь расширяется у самого Байкала, образуя некое пространство с волнистыми краями. Кажется, что это вольное пространство, воздух над ним – насквозь пропитаны, пронизаны солнечным светом, не сумевшим пробиться в дремотную щелочку пади.
На краешке его и притулилось кладбище, а метрах в пятидесяти от него, почти в центре полянки, заброшенный дом лесника. Рядом с домом еще видны нижние, покрытые мхом венцы бани и конюшни.
Лесник и его семья давно не живут ни в этом доме, ни в этой деревне, расположенной в соседней, широкой и в прошлом золотоносной, пади.
Но я помню еще то время, когда они здесь жили. Яснее всего помню младшую дочь лесника. Чаще всего почему-то вспоминается, как она косила тяжелую, серебристую от росы траву на этой поляне, отступив недалече от кладбища.
– Ты чего это, деушка, траву-то на самых могилах сшибашь? – попытался я подделаться под местный говор.
– А она здесь скуснее, – весело ответила дочь лесника, поддразнивая меня.
Красивая была девушка. И косила красиво. Где она теперь?..
Помню сеновал: запах свежего сена, огромные синие льдинки звезд, словно вмерзшие – в те теплые августовские ночи – в черноту пространства, и льдинки глаз Веры или, кажется, Нади, нет, вернее, Любы, Любови (у меня всегда была плохая память на имена) – помню. Да нет, не помню. Вспоминаю только иногда свою Веру-Надежду-Любовь.
Минувшее…
Я еще тогда думал, что, наверное, на этом кладбище никого не хоронят. Видимо, есть где-то другое. Побольше. В городах привыкаешь (страшная привычка) к кладбищам большим.
В тот год я впервые приехал на биостанцию, находящуюся в этой деревне. Еще не зная, что полюблю эти места надолго. Пожалуй, навсегда.
В тот год не было на этом кладбище свежих могил. Оно казалось заброшенным. Дата последнего захоронения была десятилетней давности.
«А может быть, в этой прелестной деревеньке никто не умирает? – думалось мне в особо счастливые минуты. – Грех умирать среди такой красоты».
Теперь-то я знаю, что умирают. Смерть реальнее жизни хотя бы потому, что находится всегда в одном неизменном состоянии. Она не любит перемен.
Избушка лесника теперь стоит с заколоченными накрест ставнями и дверью. Только ставни одного окна освободились от своего дощатого плена. И избушка бельмовато (из-за пыли на стеклах) глядит этим окном куда-то. Чудится, что вдаль.
В синеву.
За Байкал.
А когда ветрено, она машет этими освободившимися от своего распятия белыми ставнями, как курица куцыми крыльями, желая улететь куда-то.
Обычно улететь ей хочется сырой и серой поздней осенью…
Повизгивает. Поскрипывает. Покряхтывает что-то жалобно. Наверное, ей тоскливо стоять одной рядом с кладбищем. Печь давно остыла и не дает тепла. А облупившаяся труба, как облезлая гусиная шея, тянется в небо, цепляясь за низкие, тяжелые от влаги осенние тучи, быстро уносимые ветром то в падь, то в сторону серого – почти до черноты – Байкала. А еще мне вспоминается, как турист все лето лютует. То дранку с крыши сдерут на разжожку, то вырежут на бревнах или двери такое!..
Грустно. Одиноко. И заступиться некому.
Задумался. Унесло челнок моей памяти в Лету.
В те лета.
В то лето.
Тогда, здесь, в Сибири, оно было такое же жаркое, как нынешнее.
А Москву полосовали дожди.
Возвращаясь из Польши, я не полетел сразу в Иркутск, домой, а задержался на неделю в столице. Так хотелось увидеть «Москву Олимпийскую». Почувствовать сам дух Олимпиады.
Открытие Олимпийских игр застало меня еще в Польше, в Торуне.
Мы с приятелем шли по одной из улиц этого чудесного города, в котором родился Коперник, и я обратил внимание на то, что в витрине магазина электротоваров на экранах всех стоявших там телевизоров идет одно действо, одна программа (обычно программы включались разные) – забавные, добродушные олимпийские мишки. Это юные гимнасты, наряженные медвежатами, весело выделывали всевозможные трюки.
Мы вошли в магазин и увидели, что с экранов всех телевизоров ярким солнечным днем с улыбками, задором смотрит на нас Москва Олимпийская.
Продавщицы – одни женщины (показавшиеся мне в тот радостный час такими красавицами! Впрочем, может быть, таковыми они и были), услыхав, что мы говорим по-русски, стали показывать на экраны телевизоров, потом на нас, потом складывали пальцы в кулачки и показывали нам, улыбаясь, большой оттопыренный палец руки. Мне тоже захотелось быть красивым в этот миг, а добрым – всегда. Мы понимали, что им нравится это представление, что происходящее в Москве – это здорово! И нам, представителям страны, перепадала часть восторга и восхищения, вызванная этим красочным зрелищем.
Кажется, лорд Килланен – председатель Международного Олимпийского комитета – после закрытия Олимпиады сказал: «Повторить Московскую Олимпиаду можно – превзойти нельзя!» Но тогда этих слов еще не было.
Было открытие.
Было радостно и торжественно, наверное, не только мне, моему приятелю и продавщицам этого маленького магазинчика, а многим, многим людям на Земле.
Открытие открывало сердца.
И мне так вдруг захотелось в Москву!..
Москва в тот год выглядела невестой. После Берлина и Варшавы она мне показалась самой дивной из трех столиц. И была какая-то задумчивая, притихшая и в то же время карнавальная, необычная.
В тот июльский вечер я со своими московскими друзьями – двумя милыми девушками – смотрел в Крылатском финальные соревнования по академической гребле.
Дождь хлестал нещадно.
Наши проигрывали.
Мы насквозь промокли (не попали под «козырек» и сидели на открытой скамейке, все чаще вспоминая о том, что, по долгосрочным прогнозам синоптиков, предполагалось обилие солнца и тепла. Даже моя кожаная куртка уже не сдерживала влагу), но продолжали смотреть, как упорные гребцы упрямо боролись с водой за секунды и доли секунд.
А в этот же день Серега боролся с байкальской волной за жизнь.
…Часа в четыре на биостанцию позвонила жена Сереги и попросила его приехать за ней и за ребенком в Листвянку, так как никаким другим транспортом, кроме лодки, – да иногда теплохода, идущего в бухту «Песчаную», эту Мекку туристов, и останавливающегося на несколько минут в Больших Котах, – в эту деревню ничем не доберешься.
Было солнечно.
Байкал только слегка морщинил свой лоб. Но опытному человеку уже было ясно – идет верховик.
В семнадцать часов Серега оттолкнулся от причала, чтобы через каких-нибудь полчаса – хотя все остальное лишь предположительно – пристать к последнему причалу, расположенному у ворот вечности. Он был весел. Шутил. Улыбался. О чем он думал в эти последние полчаса, как все это произошло?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: