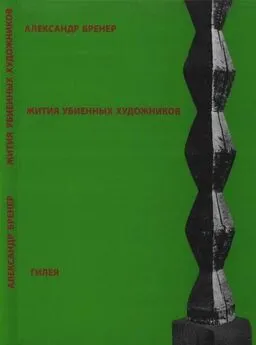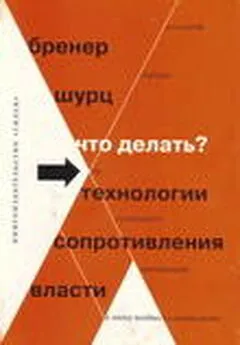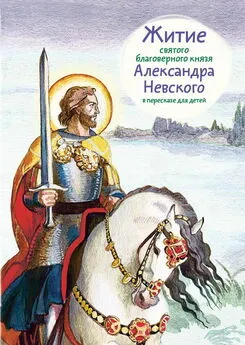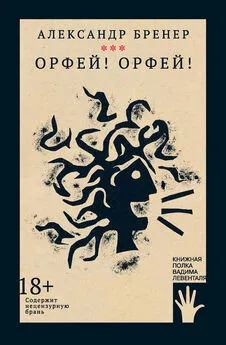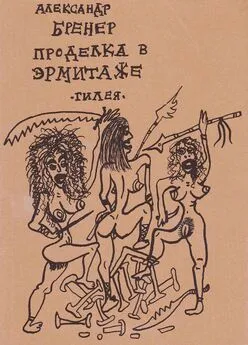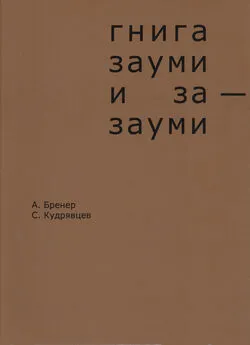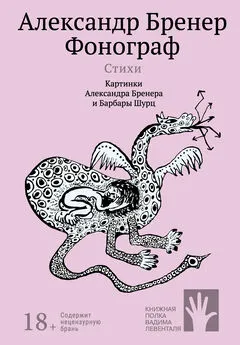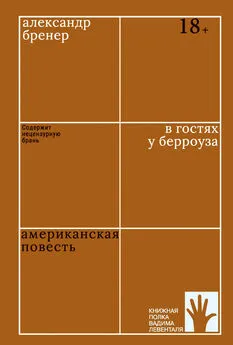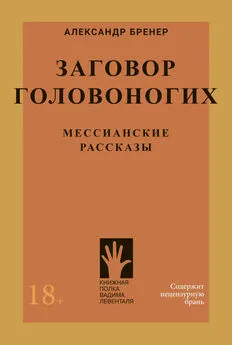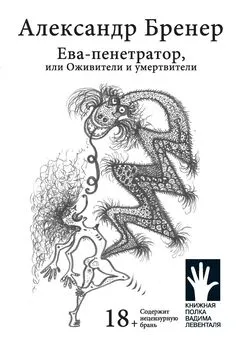Александр Бренер - Жития убиенных художников
- Название:Жития убиенных художников
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Гилея
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-87987-105-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Бренер - Жития убиенных художников краткое содержание
Скорее, она — опыт плебейской уличной критики. Причём улица, о которой идёт речь, — ночная, окраинная, безлюдная. В каком она городе? Не знаю. Как я на неё попал? Спешил на вокзал, чтобы умчаться от настигающих призраков в другой незнакомый город…
В этой книге меня вели за руку два автора, которых я считаю — довольно самонадеянно — своими друзьями. Это — Варлам Шаламов и Джорджо Агамбен, поэт и философ. Они — наилучшие, надёжнейшие проводники, каких только можно представить. Только вот не знаю, хороший ли я спутник для моих водителей»…
А. Бренер
Жития убиенных художников - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Он ревновал, когда меня хвалила в своих статьях Дёготь, когда мной интересовался Пригов, когда меня взял в свою клику босс Мизиано.
Он завидовал, когда обо мне брехали бульварные газетёнки.
И ещё он видел, что его хвалёная «прозрачность» — пожухлая халтурка, скучная мутотень, а вовсе никакая не прозрачность. Тягомотина для недотыкомок.
Вот и стал этот недопечёный кулич, этот литургический купчик скрести себя по бокам и кумекать: куда бы ему вывернуться из тупика прозрачности, хм-хм!
Никакой подлинности, лёгкости в его повороте к «акционизму» не было — одно кишечное страдание, скрежет зубовный.
Был, конечно, и самолюбивый азарт, желание взбодрить карьерку.
Увы! Собачья эпопея привела Кулика не к бестиальности, а к бешеному эстетическому прозябанию.
Как говорил Варлам Шаламов: искру творческого огня можно выбивать и обыкновенной палкой.
Кулик сам себя бил палкой, как унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла.
Думая об акционизме Кулика, я не могу отделаться от ощущения, что он готов был собственную мошонку на кресте распять — лишь бы заполучить своё место в истории искусства.
В этом смысле духовным наследником Кулика является Павленский.
«Последнее табу, охраняемое одиноким Цербером», — так я назвал действо, произошедшее осенью 1994 года перед галереей Гельмана, когда я водил Кулика на цепи по мокрому асфальту, а он голышом бросался на проезжающие автомобили.
Почему Цербер?
Потому что Кулик и был псом, охраняющим шкаф с изъеденным молью искусством.
Он понимал искусство банально, уныло, рабски — как хрестоматийный корпус, освящённый искусствоведами и музеями.
Он всеми силами хотел вписаться в этот корпус-морбус, поэтому и охуевал в тот вечер, готов был в говёную лепёшку разбиться, лишь бы угодить всем этим критикам и циникам, собравшимся на холодной улице.
После своего выступления он блевал во дворике — напряжение оказалось слишком велико для этого мещанина-художника.
Я тогда водил его на железной цепи, приговаривая цитату из стихотворения Вертинского «То, что я должен сказать».
Это — стихи о бессмысленных смертях русских солдат на полях первой мировой войны, строки о том, как юность «закидали ёлками и замесили грязью».
— В бездарной стране! В бездарной стране… — кричал я.
А Кулик метался по грязи, в наигранном остервенении кидался на публику.
Всё тогда было как в этих стихах Вертинского — глупо, дико и беспросветно.
Осторожные зрители молча кутались в шубы и куртки.
А какая-то женщина с искажённым лицом кричала от ужаса и восторга, когда Кулик прыгнул на неё.
Но никто не додумался просто стать на колени
И сказать этим мальчикам, что в бездарной стране
Даже светлые подвиги — это только ступени
В бесконечные пропасти к недоступной весне!
Нет, никто тогда из московского художественного бордельчика ни черта не понимал в происходящем, хотя бездарная страна уже вовсю ныла и кровоточила от хамства власти, от беспощадности и ненужности того круговорота, в который все были брошены.
Впрочем, художник Ригвава понимал, и говорил о «какистократии» — господстве худших.
А Пригов сказал мне той ночью:
— Вы всё правильно делали. Только вы.
Зато эта кромешная баба из тройки АЕС — Татьяна Арзамасова — восклицала в тельмановском офисе:
— Ах, Саша, ты проиграл! Теперь Кулик — главный радикал!
Вот так дура и дрянь.
Кулик, однако, в своём мизерном, азбучном восприятии искусства был не одинок.
Он был Цербером, а другие?
Разве прославленный Илья Кабаков не является всего лишь прилежным сторожем, охраняющим мировой музей?
Разве не свойственно всем этим Никитам Алексеевым и Вадимам Захаровым консервативное, охранительское понимание культуры?
А на другом полюсе — опереточное хихиканье каких-нибудь «Синих носов».
Дрянь, срам, убожество!
Олег Кулик в 90-е годы пошёл по дороге популистского искусства в Москве.
Эту дорожку мог бы осваивать и Анатолий Осмоловский, но он колебался, раздумывал, читал Адорно.
А Кулик кинулся в популизм с азартом, прямо как Мам-леев — в задний проход Бабы-Яги.
Куликовский популизм не имеет, конечно, ничего общего с народным (или низовым) искусством.
Популизм Кулика — это подгонка языка современного московского искусства к уровню российских средств массовой информации.
Московская артистическая деморализованная среда не имела никаких художественных критериев и этических ориентиров и поэтому охотно аплодировала куликовской базарной адаптации.
Пометавшись в тот мокрый вечер Цербером на цепи, Кулик круто пошёл вверх.
И газетки теперь застрочили о нём, и критики подбадривали.
Хозяйчики вроде Мизиано и Бакштейна прежде морщили носы от куликовской «прозрачности» — зато куликовская собака им пришлась по нраву.
И понятно: это была их цепная собака, верный, хоть и кусачий пёс.
Он лаял, скулил, выл, дёргался, рвал штанины, но хорошо служил этим двум доморощенным дрессировщикам, пытавшимся держать на коротком поводке всех московских художников.
Другой забавный эпизод с Куликом-шавкой произошёл в Стокгольме, на выставке «Интерпол».
Там, на открытии, я сидел за ударной установкой — и барабанил что было сил, как заяц в угаре.
Я был в ярости, и вместе с тем — в смеховом подъёме.
Мне нравилось барабанить на весь Стокгольм: «Интерпол» — проект совместной работы художников из разных стран — был провален и выродился в ничтожное шоу.
Я барабанил минут сорок, орал и ждал момента, когда мои барабанные рулады взвинтят меня настолько, что я решусь уничтожить эту позорную выставку.
Её следовало уничтожить — это был акт разрушения — разрушения.
Момент настал.
Я задыхался и горел в поту. Я уже сломал одну из барабанных палочек.
Тогда я вскочил и начал крушить безмозглую инсталляцию из человеческих волос, которая возвышалась в центре помещения.
Мне было весело ворошить, разбрасывать комья волос.
Кулик в это время сидел в другом конце зала.
Сидел возле построенной для него будки — сидел на цепи, голый.
Сидел — и скулил, полаивал.
Увидев мои разрушительные действия, он решил, что я стану единственным героем события, что все лавры окажутся на моей башке.
Поэтому он начал кидаться на посетителей и кусать их.
Он хотел во что бы то ни стало попасть в заголовки газет, которые на следующий день напишут о скандале.
Я атаковал выставку, потому что она была — ложь, туфта.
Кулик кусал зрителей, потому что хотел быть знаменитым русским цербером.
А потом, кстати, он ручки целовал у шведского куратора, извинялся, сопли пускал.
А я послал их всех к чёрту!
Мизиано, шведы — фуфло.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: