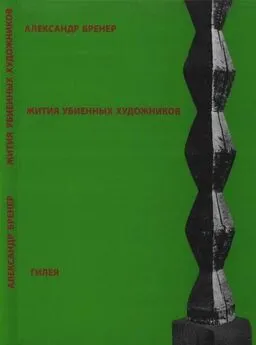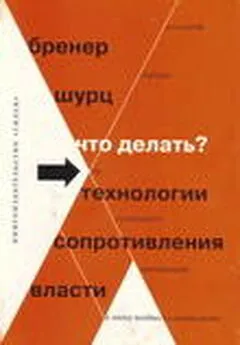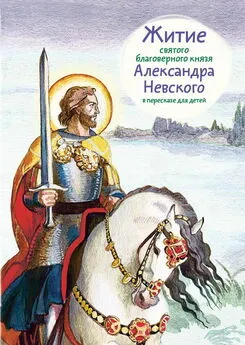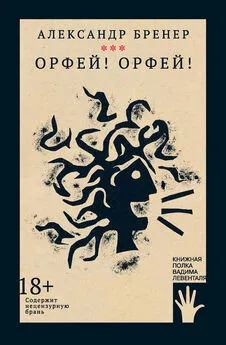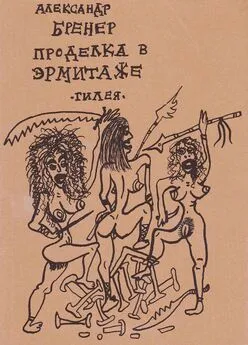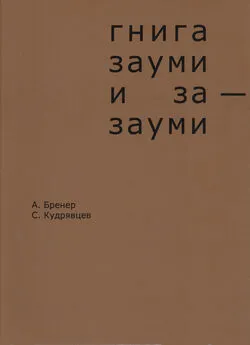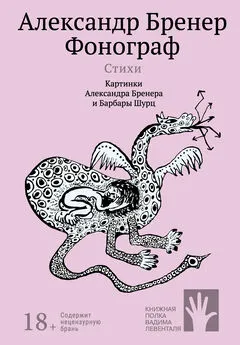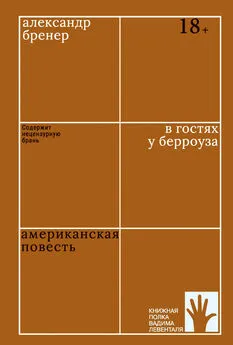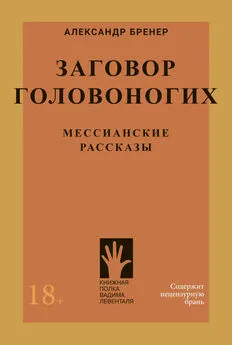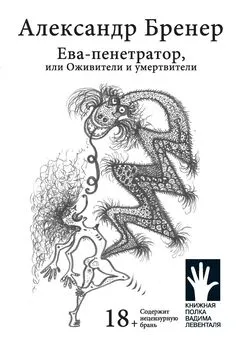Александр Бренер - Жития убиенных художников
- Название:Жития убиенных художников
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Гилея
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-87987-105-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Бренер - Жития убиенных художников краткое содержание
Скорее, она — опыт плебейской уличной критики. Причём улица, о которой идёт речь, — ночная, окраинная, безлюдная. В каком она городе? Не знаю. Как я на неё попал? Спешил на вокзал, чтобы умчаться от настигающих призраков в другой незнакомый город…
В этой книге меня вели за руку два автора, которых я считаю — довольно самонадеянно — своими друзьями. Это — Варлам Шаламов и Джорджо Агамбен, поэт и философ. Они — наилучшие, надёжнейшие проводники, каких только можно представить. Только вот не знаю, хороший ли я спутник для моих водителей»…
А. Бренер
Жития убиенных художников - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Все эти выставки — смегма.
После Стокгольма я ещё пару раз встречал Кулика — в Санкт-Петербурге, в Берлине.
В питерской харчевне его грязную тарелку подобострастно вылизывал критик Андрей Хлобыстин.
А Кулик сидел — сытый маэстро, снисходительно принимавший униженное мурлыканье языкастого критика.
На это было тошно смотреть.
Он уже не изображал охранника-цербера, а сам стал Небожителем, Художником, Мастером, Мэтром.
Похваливал Тимура Новикова, и тоже, по-куликовски, приноравливался к вечным, нетленным, академическим ценностям.
Он уже видел себя в Русском музее, в Эрмитаже…
В Берлине он был на подиуме с самовлюблённым Петером Вайбелем, в молодые годы тоже ходившим на четвереньках по Вене.
Кулик и Вайбель — пара респектабельных, признанных деятелей, ведущих диалог о своём творчестве перед полной аудиторией.
Я хотел залезть на сцену и дать пощёчину Вайбелю, но Кулик его защитил.
Публика была возмущена внезапным появлением истерического хулиганишки, и рукоплескала Кулику и Вайбелю — двум гигантам мысли, двум революционерам искусства.
Олег Кулик, кулич, кулебяка — плохо приготовленное, сыроватое, скверное блюдо.
Его могут подсаливать критики Дёготь и Ковалёв, его может подмазывать салом газета «Коммерсант», его будет сдабривать своими слюнями публицист Михаил Рыклин, его станут похваливать психоаналитики из Любляны, а потом его захотят кушать недотёпы в Москве и в Париже, но оно, это блюдо, — несъедобное, несъедобное!
Только мелкая буржуазия, не знающая вкуса ржаного хлеба и амброзии, может польститься на такую собачину.
Только жирные и глупые рыбёшки постисторического аквариума готовы клюнуть на эту гнилую приманку.
Что именно привлекает полупросвещённую публику в Кулике? Я вам скажу: моторная функция, мышечная деятельность. В этом художнике работает неустанный, заведённый рукой культурной индустрии мотор, производящий постоянные выхлопы, хрип, пердёж, рокот и газы: грр-ррр-бр-пух!
Кулик хочет произвести впечатление силы, жизненности, вулканического бурления. Он — деятельный, как и полагается быть заведённому механизму. Но его эмоции, его жизненность, его энергия — пустые, фиктивные, холостые, не сердечные, а желудочно-кишечные. Они, эти мотор-но-муторные потуги, начинаются и кончаются в масс-медиальном культурно-промышленном гараже имени Романа Абрамовича и Марины Абрамович.
Вместо того чтобы думать, Кулик читает глянцевые журналы, буддийские справочники и производит артефакты. Он беспрерывно куёт свои объекты, прозрачности, фотографии, перформансы, инсталляции, выставочные проекты. Это — практическая демагогия Кулика, его вклад в идеологическую обработку болванов. Топорная моторность этого художника — это массивное, на холостом ходу, запудривание мозгов с помощью произведений, которые ничего не проясняют, не открывают, а погружают в ещё больший конфуз, в эстетическую сумятицу. Это — сегодняшний художественный блеф. Это — культурный популизм эпохи массового политического слабоумия.
А сейчас Кулик выдаёт себя уже за мудреца…
Юрий Лейдерман, как я его понимаю, есть изнанка Олега Кулика.
Кулик — ложный витализм, фальшивый аффект, а Лейдерман — порожний интеллектуализм, духовное начётничество, конфузная игра образами и идеями.
Оба они до усрачки хотят быть «художниками», настоящими, подлинными художниками, — и кубарем скатываются из искусства в эстетизм, с гор воображения — в болото эпигонства.
Когда мы ведём разговор о художнике, о современном художнике, нам иногда не вредно вспомнить те критерии, которые применяли к творчеству ещё Пушкин или Мэтью Арнольд.
Пушкин сказал, что поэта надо судить по тем законам, которые он сам к себе прилагает.
Мэтью Арнольд писал, что у критика есть три обязанности: 1) понять задачи, поставленные перед собой художником; 2) выяснить, справился ли художник с этими задачами; 3) решить, стоило ли этими задачами заниматься.
У Лейдермана и Кулика, как у огромного большинства московских художников 1990-х годов, не было никаких подлинных задач, которые они перед собой ставили.
Эти художники, несмотря на все претензии, были пусты.
Куликовская «прозрачность» высосана из пальца.
Лейдерман знал только одну, типично концептуалистскую тональность, — монотонную морбидность.
Это была тональность тугодумного Игоря Макаревича — самого гробового из концептуалистов.
Но гробовыми были и Булатов, и Пригов, и Борис Орлов, и Чуйков, и Скерсис, и даже Кабаков.
Велимир Хлебников когда-то нападал на русский символизм за смакование мертвечины, смерти, замогильности.
Будетлянство для автора «Заклятия смехом» было радостным противоядием против смертолюбия Сологуба.
Увы! Смертолюбие не было побеждено футуристами.
Московский концептуализм весь воняет могилой.
И все эти лейдермановские урны, колумбарии, тряпьё и бонбоньерки с прахом — свидетельство его эстетического уныния, занудства, скудоумия, а вовсе не признание в любви к Дюшану.
Дюшан был насмешником и эротоманом, а Лейдерман — школьный наставник, отпрыск Передонова.
Если бы он мог, то вечно колотил бы мир линейкой по пальцам.
С Лейдерманом я провёл достаточно времени, чтобы сказать: это — мотыга. Другие названия: тяпка, цапка, сапка, он же кетмень. Представляет собой совмещение кирки и лопаты.
Этот инструмент может быть использован в современном эстетическом народном хозяйстве, то есть в концентрационном лагере культуры — для обработки уже готовеньких кладбищенских клумб.
Эта тяпка не копает глубоко, не открывает внутренние пласты. Лейдерман говорит, что его метод — «геопоэтика», что он исследует глубинные срезы пород, что он следует ризоматике Жиля Делёза, что он ворошит атомы. Я ни на грош ему не верю. Лейдерман — настырный пульверизатор смыслов. Его проза — монотонные облака пыли, раздуваемые злобными выдохами. Его стихи — причитания и пляски опустошённого сектанта. Его небесная Одесса — палисадник пошлой, обескровленной эстетики.
Политически Лейдерман — обыватель, республиканец из партии Никсона и Рейгана. В застольных разговорах он путает «национальную революцию» с освободительным восстанием. Он — утробный реакционер, агрессивный филистер, и все его инсталляции, фильмы, картины, словесные опусы пропитаны сальным духом соглашательства — с музейным мраком, со злокачественной публичностью, с консенсусом.
И при этом куда его, бедолагу, только не заносило в поисках удобоваримого творчества — и в заискивающий концептуализм, и в спиритуалистское рисование йогуртом, и в иронический перформанс, и в литургическую инсталляцию, и в многозначительное видео, и в кладбищенские объекты всякого рода, и в лжемаргинальную живопись — и везде пустота, суета, выпячивание маленького «я» вместо его исчезновения. Этот художник поистине метался, как сукин сын, в поисках самовыражения. И злился, унывал, не встречая у зрителей восторженного одобрения. Однажды он сказал мне с досадой: «В Москве есть модные художники, а есть немодные. Я — немодный». Вот так анализ, вот так океаническая глубина наблюдения!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: