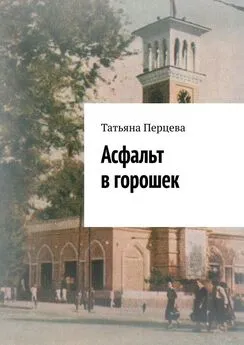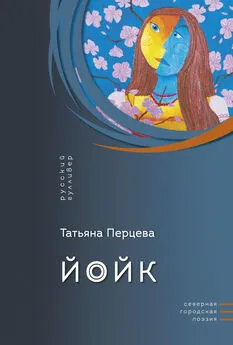Татьяна Перцева - Город уходит в тень
- Название:Город уходит в тень
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Перцева - Город уходит в тень краткое содержание
Город уходит в тень - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Удивительно, какими путями может идти любовь, чтобы в конце концов вас посетить…
Я исключительно о любви к искусству. И, конечно, к книгам, а особенно к поэзии.
С книгами в нашей семье было просто. Семья читающая. Особенно мама. Всю жизнь жалела об оставленной в Кривом Роге библиотеке. Но брать книги в эвакуацию не было никакой возможности. Правда, кое-кого из тех писателей, от которых она была в восторге, я позже читала и поняла, что своего времени они не пережили. Скажем, Арцыбашев, Виктор Маргерит, Понсон дю Террайль и Эжен Сю. Сю я брала, как ни странно, в университетской библиотеке. Дореволюционного издания. Маргерита — в библиотеке Навои. Арцыбашева и дю Террайля пыталась читать уже в девяностых. Безнадежно устарели. А Сю еще и невыносимо скучен. Зато от мамы я узнала о Киплинге. Который в то время был в немилости у советского правительства как певец империализма. У мамы там остались «Книга джунглей» и «Ким». «Кима» я прочитала совсем поздно. В оригинале. О том, что Киплинг еще и поэт, я тогда совсем не знала. Вообще, у нас в семье с поэзией было не слишком. То есть серый четырехтомник Лермонтова и темно-синий десятитомник Пушкина были. Они у меня и сейчас стоят. С того времени. Но не более того.
То же самое можно сказать о живописи. У нас не было ни одной картины. В доме никогда не говорили на такие темы. Хотя каких-то художников знали все. В те времена несчастные мишки Шишкина украшали каждое общественное заведение. Столовые, конторы, школы… мишки тиражировались какими-то дикими миллионами. Как и «Три богатыря» Васнецова. И «Неизвестная» Крамского. И «Девятый вал» Айвазовского. Уж не знаю причину такой избирательности, но что было, то было.
Проще всего было с фильмами. В то время все смотрели любые выходившие на экран фильмы, как наши, так и трофейные, а позже — те, что закупались за границей.
Должна сказать, что я очень благодарна советской цензуре за то, что для покупки отбирались лучшие фильмы и лучшие произведения зарубежных писателей. Все остальные произведения тех же писателей, проглоченные в девяностые, ни в какое сравнение не шли с уже изданными. При этом не стоит думать, что занавес был таким уж железным. В шестидесятые — семидесятые издавались и Пруст, и Камю, и Кафка, и Сартр, и Симона де Бовуар, и Саган, и много-много всего того, чего раньше мы прочитать не могли.
Фильмы тогда были просто замечательные. Французские. Франко-итальянские. Американские. Не тупые боевики.
В остальном приходилось самообразовываться. Свое самообразование я бы назвала «цепочечным». Потому что училась я по цепочке. Скажем, увидела в каком-то романе стихотворную цитату или упоминание о незнакомом писателе. Бежала в библиотеку. Если там не было, шла в библиотеку Навои или, позже, в университетскую. И так далее. Книги были дешевыми, у спекулянтов подороже. В детстве моей любимой книгой была «Легенды и мифы Древней Греции» Николая Альбертовича Куна, которому благодарна до сих пор за такт и умение обойти скользкие темы в непростой истории богов и героев, поскольку читали это в основном дети. Когда-то я взяла ее почитать у одноклассницы Светы Костенко, потом маме удалось ее купить. Благодаря этой книге я с легкостью сдала античную литературу на первом курсе.
Да, в университете преподавали зарубежную литературу. Спасибо моим великолепным преподавателям, я узнала много новых имен. Особенно поэтических. Но и сама не успокаивалась. Уже в университете открыла для себя скандинавскую литературу. Великолепную. Огромные залежи. Сигрид Унсет, Сельма Лагерлёф. Нессе. Лассила. Ибсен. Кьеркегор. Ларни. Якобсен. Андерсен. Спилберг. Нурдаль Григ. Бьёрнсон. Гамсун. Последний, невзирая на нацистские убеждения, тоже издавался при советской власти. Одно время моей настольной книгой был «Маленький лорд» Юхана Боргена.
Точно так же дело обстояло и с поэзией. Конечно, тут и бабушки с Алайского, непонятно где раздобывавшие дефицит и, главное, не просившие миллионов, и спекулянты, и книжный блат…
На все это ушли годы и годы. И не менее четырех библиотек, не считая времени, проведенного в публичках.
То, что раньше казалось прекрасным, иногда с течением времени становилось просто хламом, но великие оставались великими.
С живописью дело обстояло интереснее. То есть забавнее.
В детстве мама выписывала журнал «Огонек». Его в моей семье даже не читали (кроме меня). Журнал был достаточно политизированным, тем более что с начала пятидесятых и почти до конца восьмидесятых редактором оставался Анатолий Софронов, бездарный драматург и человек с отвратительной репутацией, из тех, кто не брезговал ничем. Пик взлета «Огонька» — годы, когда редактором стал Виталий Коротич. Тогда посыпались всяческие разоблачения, «Огонек» стал рупором перестройки, хотя мало чем отличался от желтой прессы.
Ну а в пятидесятые журнал печатал статьи о превосходстве СССР над остальными странами, рассказы советских писателей, иногда юмористические или фельетоны, карикатуры Бор. Ефимова, брата Михаила Кольцова. Из-за этих карикатур я долгое время считала, что у всех американцев ужасно уродливые хари, а у Тито действительно с рук капает кровь. Меня можно извинить. В пятидесятом мне было пять лет. Всему поверишь. Выписывали «Огонек» из-за прекрасных литературных приложений. Чего там только не печаталось! Позже стало возможным выписывать приложения без журнала.
Но «Огонек» делал одно очень доброе дело: помещал на развороте четыре страницы репродукций русских и зарубежных художников.
Эти репродукции и стали причиной моего интереса к живописи. Тем более что журнал был еженедельным. Я репродукции вырывала и складывала в выделенную родителями папку. Именно там я впервые увидела репродукцию портрета Гейнсборо «Дама в голубом», тем более что картина находится в Эрмитаже. Папка так и лежит у меня. До сих пор.
Потихоньку я стала запоминать имена… Что-то нравилось, что-то нет.
Потом в руки мне попала книга о Рембрандте, где репродукции, как встарь, были переложены папиросной бумагой. Над книгой я долго плакала. Очень жалко было Рембрандта. Я никогда не думала, что увижу его дом в Амстердаме. Но увидела. Случилось.
Я не знаю, откуда в доме появились вырванные из какой-то очень старой книги черно-белые репродукции портретов Антониса Ван Дейка. Сплошь изображения знаменитостей XVII века. Короли, королевы, фаворитки, куртизанки… Почему-то я не расспросила маму, откуда они. Но эти репродукции тоже у меня. Таких ни у кого нет. И, кроме того, я заинтересовалась изображенными на портретах людьми и таким образом увлеклась историей.
И тут я узнаю, что картины, оказывается, хранятся в музеях! Папа проговорился, на свою голову. Ну и попался. Сам виноват. Я так его достала, что он повел меня в музей. Который назвал музеем изящных искусств. Там я сразу влюбилась в Атланта, раз и на всю жизнь. И в «Девочку с веером» итальянского скульптора Фантакиотти, не слишком известного, потому что сведений о нем почти не нашлось. Меня поразили мраморные кружева ее платья. Скульптур немного, но они все очень неплохие. Великий князь Николай Константинович и чиновник Шляхтин дряни не собирали. Слава богу, их не расхитили, как расхитили и разворовали множество картин музея в наше время. А собрание было прекрасным.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
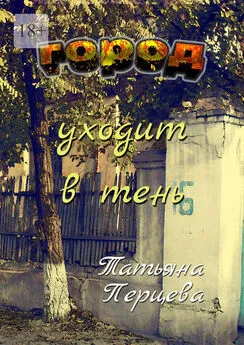
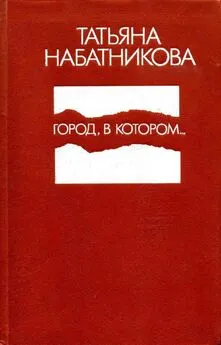

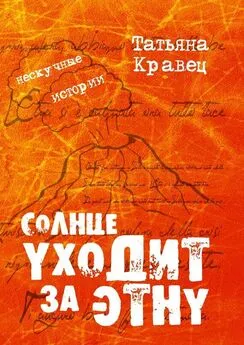
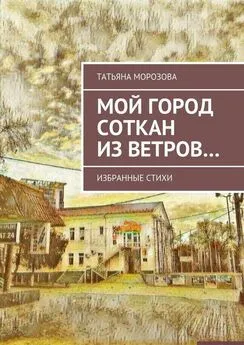
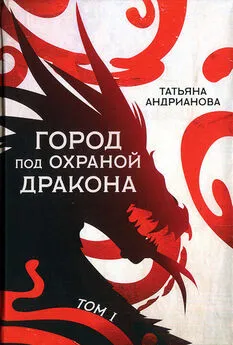
![Татьяна Русакова - Город, которого нет [Фантастическая повесть]](/books/1078605/tatyana-rusakova-gorod-kotorogo-net-fantastichesk.webp)
![Татьяна Гуркало - Город для хранящего [СИ]](/books/1099950/tatyana-gurkalo-gorod-dlya-hranyachego-si.webp)