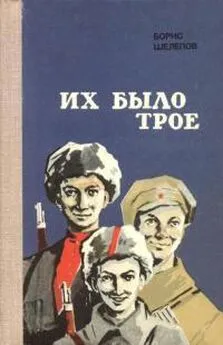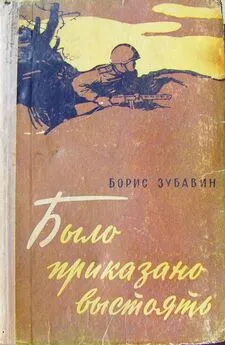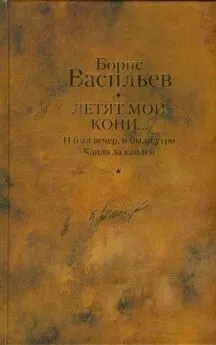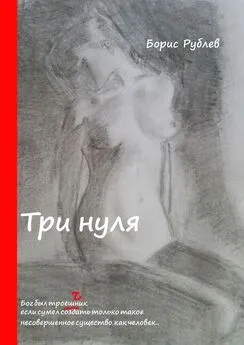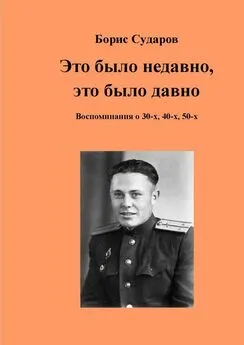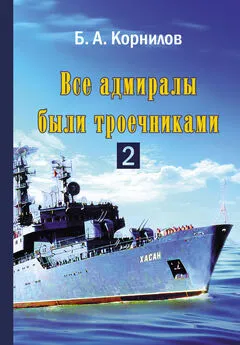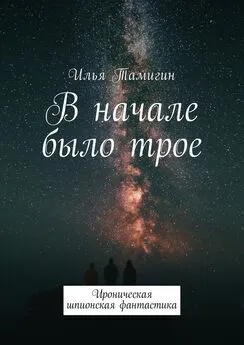Борис Шелепов - Их было трое
- Название:Их было трое
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ир
- Год:1969
- Город:Орджоникидзе
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Шелепов - Их было трое краткое содержание
Их было трое - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Какой же «камень» залатали? Почему он мне «хорошо знакомый»? Кто земляк?.. — разводила мозолистыми руками работница.
Пришел на выручку лектор из военкомата республики.
— Ваш сын Николай Иванович «закодировал» свое письмо, хотя секретов-то нет. Военная привычка.
— Значит, нельзя, — с серьезным видом возразил Василий Акимович. — Вы лучше, товарищ капитан, расшифруйте, а Наталья Федоровна расскажет после о фронтовых делах сына в своем цехе.
Лектор достал из планшета объемистую записную книжку.
— Вот она, сводка, в «Правде» напечатана.
Капитан Рябов (так звали лектора) переложил письмо гвардии лейтенанта Бездольного на понятный язык.
…1-й Белорусский фронт. Закончена Бобруйская операция. Наступление продолжается. Преодолев сопротивление гитлеровцев на промежуточных рубежах, конно-механизированные войска генерал-лейтенанта И. А. Плиева 30 июня с боем заняли Слуцк. 2 июля части 1-й гвардейской КМГ овладели крупными населенными пунктами Столбцы и Городня, перерезали железную дорогу Минск — Барановичи. Таким образом, за сутки до освобождения Минска обе железные дороги на юго-запад и северо-запад от Минска «оседланы» казаками. 3-го июля войска 1-го Белорусского совместно с «большим соседом» — 3-м Белорусским фронтом — замкнули окружение вражеской группировки восточнее Минска.
— А насчет живой стены и камня? — с тревогой спрашивала Наталья Федоровна.
Военный лектор улыбнулся успокаивающе:
— Скажу, скажу. Хочу еще дополнить письмо вашего сына.
…4-го июля соединения подвижной группы И. А. Плиева получили новую задачу — развивать наступление на юго-запад, нанося удар в направлении Барановичи, Брест и выйти на рубеж Слоним, Пинск; в последующем овладеть Брестом и создать плацдарм на левом берегу Западного Буга.
В этот период между двумя боями писал свое замысловатое послание командир пулеметного взвода Бездольный, получивший ранение в предплечье осколком фашистской бомбы. Три дня пролежал в медсанбате — и в строй.
После взятия крупного узла сопротивления Барановичи (обходным маневром танков и кавалерии И. А. Плиева и ударом общевойсковых соединений с фронта) и последующего освобождения Слонима, 15 июля конно-механизированные части вышли на линию: станция Свислочь — Пружаны — Картуз-Береза. К исходу 16-го была полностью ликвидирована окруженная группировка немецко-фашистских войск.
Во второй половине июля 1-я гвардейская КМГ включилась в Люблинско-Брестскую операцию.
События развивались не менее стремительно, чем в Новобугско-Одесской операции. В боях за освобождение Белоруссии участвовало несколько фронтов, с севера нависал даже 1-й Прибалтийский. План огромной по масштабам операции был блестящим образцом оперативно-стратегического искусства советских полководцев. «График» ударов по врагу составлен таким образом, что противник то там, то здесь показывал свою «открытую челюсть» и получал по ней сполна. Шаг за шагом гитлеровское командование отдавало на «съедение» свои крупные резервы. Некогда грозная группа армии «Центр» была обескровлена. Она потеряла только тридцать дивизий в районе Витебска, Бобруйска и Минска…
— Наша родная Белоруссия почти полностью освобождена, — говорил лектор Рябов. — Вы должны гордиться своим сыном: он участвовал в этих сражениях и получил рану, спасая с друзьями своего любимого генерала…
— Как? Когда ранен? — воскликнула мать. — Ведь Коля ничего не пишет об этом…
Рябов успокоил Наталью Федоровну, объяснил смысл непонятных строк. Земляк из Старого Батакоюрта — Исса Александрович Плиев. Что касается раны Николая, то она зажила. «Выбоину залатали…» Кажется, все понятно. Коля жив и здоров, он в строю.
О многом в тот день не мог рассказать капитан Рябов — он пользовался только материалами «Красной Звезды», «Правды» и «Известий».
В Белорусскую операцию — под Жабинкой, Пинском, в районе Барановичи, Слоним и под Брестом мне довелось встречаться с плиевскими солдатами и офицерами. Я был тогда офицером войсковой разведки. Перед рейдом казаков в тыл видели мы прославленную 9-ю гвардейскую казачью дивизию Тутаринова, где служил земляк, Коля Бездольный, воспитанник комсомольской организации города Орджоникидзе.
В те дни офицеры и солдаты нашего корпуса, входящего в 61-ю армию генерала П. А. Белова, восхищались ратными делами казаков Плиева, особенно когда шли с ними рядом в одной сложной цепи общей операции.
На болотистой, лесистой и песчаной земле Белоруссии враг строил свою оборону по типу укрепленных районов.
В тылу противника был создан наш «внутренний фронт», главной ударной силой которого явились 1-я гвардейская конно-механизированная группа и многочисленные отряды, советских партизан. Войска генерала Плиева обеспечили возможность полного окружения и ликвидации группировок противника под Бобруйском и Минском.
В дальнейшем шла борьба с двумя полевыми армиями группы «Центр» и левофланговыми соединениями 4-й танковой армии группы (фронта) «Северная Украина» — они прикрывали варшавское направление.
20 июля левое крыло 1-го Белорусского фронта нанесло поражение 8-му армейскому корпусу и 56-му танковому корпусу 4-й танковой армии врага. К исходу 21 июля группа генерала И. А. Плиева вышла с боями к Западному Бугу, к Государственной границе СССР с Польшей.
В ночь на 23 июля подвижные войска форсировали реку Вепш, продвинулись на тридцать километров и очистили Люблин. 24 июля заняли Луков, перерезали дорогу Брест — Варшава. С выходом на эти рубежи танкисты и кавалеристы освободили множество населенных пунктов Белоруссии и Польши и создали благоприятные условия продвижения наших войск к Висле на широком фронте.
Лейтенант Бездольный писал: «Мы его одного загородили, а он тысячи спасет…»
За время Белорусской операции, совершая дерзкие по замыслу и стремительные по исполнению обходные маневры, войска генерала Плиева почти без потерь со своей стороны ликвидировали множество укрепленных районов и несколько сильнейших узлов сопротивления. Не будь смелых неожиданных ночных ударов, враг твердо стоял бы на своих рубежах, и брать его пришлось бы ценой большой крови. Наши воины хорошо понимали значение глубоких рейдов.
Один пожилой кубанский казак, участник гражданской войны (не помню фамилию), говорил на биваке, в лесу под Брест-Литовском:
— Пехота идет с фронта, а наш командующий, осадив коня, молвит: «Подождите, братцы, до следующего утра, не лезьте под огонь; мы «ему» сегодня темной ноченькой дадим с тыла под зад, он сам будет драпать и бросит все пушки и пулеметы — заберете их как трофеи, нам-то они не нужны, мы налегке ходим»… Подходят казаки к Седлецу. Рвутся взять его с ходу. А Плиев останавливает: «Куда? Жизнь надоела? Ночью проутюжим танками спину — сам сбежит, прохвост, а там партизаны в облаву пойдут по лесам. А лезть днем на «ура» не годится. Я своего родного казака за сто гренадеров не отдам. Вот он где, казак, сидит у меня…» — и Плиев стучит своим пудовым кулачищем по сердцу…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: