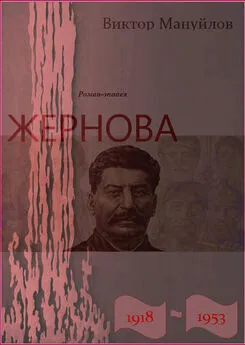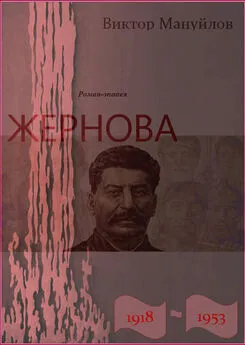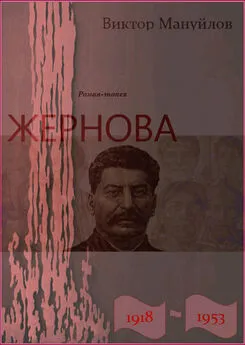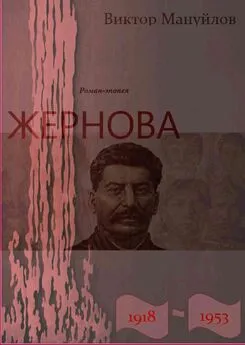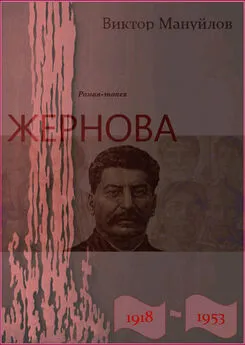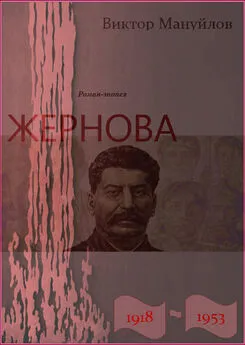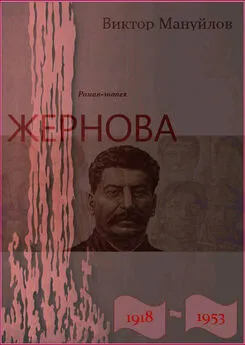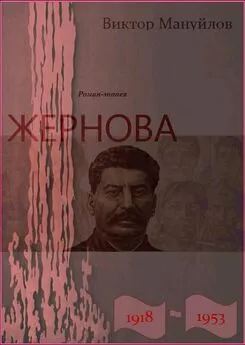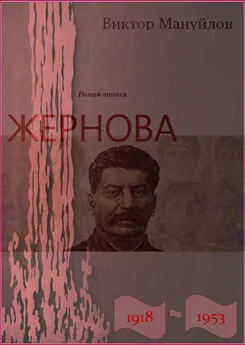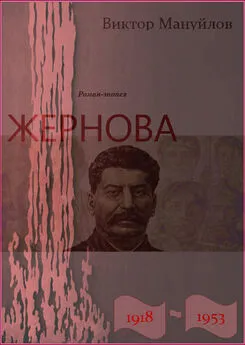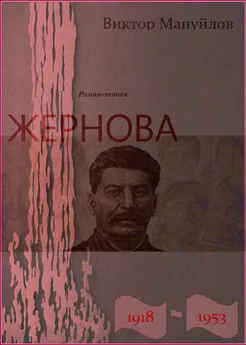Виктор Мануйлов - Жернова. 1918–1953
- Название:Жернова. 1918–1953
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2017
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Мануйлов - Жернова. 1918–1953 краткое содержание
Жернова. 1918–1953 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Глава 13
До Москвы Ермилов добрался без приключений. Он благополучно избежал многочисленных облав, которые устраивались, разумеется, не на него, Ермилова, а вообще: на мешочников, бродяг, уголовников и беспризорников. Никто не обратил внимания на старичка, с трудом передвигающего ноги, обутые в старые валенки с привязанными к ним галошами. Ну, разве что кто-нибудь из тех, кто видел, как ловко этот старичок сиганул с поезда, который несколько замедлил ход, втягиваясь в путаницу сходящихся и расходящихся рельсов.
Но не только Ермилов покинул поезд, не дожидаясь, пока он остановится под сводами Брянского вокзала. Зато Ермилов, оставаясь в душе чекистом, подумал, что вот здесь-то и нужен чекистский кордон, потому что люди, покинувшие поезд вместе с ним, имели все основания опасаться встречи с чекистами, а те, если все-таки и устроят облаву на вокзале, считай, уже упустили самую важную добычу.
Ермилов не раз участвовал в подобных облавах, знал до мельчайших подробностей их организацию, регламентированную в инструкциях Центра за подписью Дзержинского. Поэтому ему хватало беглого взгляда, чтобы понять: готовится облава.
Обычно облавы начинались с того, что, скажем, в район железнодорожной станции или рынка высылались чекисты, одетые соответствующим образом: под мешочников, бродяг и прочих антисоциальных элементов. Но как ни маскируй таких людей, они всегда выделяются из массы других неуловимыми для непосвященных отличиями. И, прежде всего, отсутствием страха перед возможной облавой. Их взгляд не столько насторожен, сколько изучающе внимателен. Двигаясь в потоке людей, они в то же время как бы совершают безостановочное движение на одном месте, потому что каждому из них отведен свой участок, своя зона внимания и изучения. Так что, едва обнаружив одного-двух топтунов, Ермилов тут же покидал опасное место.
Пока ему везло.
Наняв извозчика-лихача, Ермилов забился в угол колымаги с откидным верхом и коротко бросил:
— Сокольники.
Лихач, повидавший на своем веку всяких пассажиров, не стал допытываться у старика, есть ли у него деньги, чтобы расплатиться за проезд: голос и манеры старика говорили, что у такого деньжата водятся, а приставать к нему с расспросами — себе же в убыток.
Москва разительно отличалась от провинциального Смоленска. И не только обилием людей на ее улицах, телег, пролеток и фаэтонов, грузовых и легковых автомобилей, трамваев, больших и маленьких домов, но и лихорадочной поспешностью, с которой вся эта масса перемещалась, топоча и шаркая ногами, грохоча колесами, дребезжа, крича и воя. Над Москвой и небо было другое: оно хмурилось низкими серыми облаками, походя цепляющими неряшливыми старушечьими космами позолоченные кресты многочисленных колоколен, маковок церквей и монастырей. В Москве, наконец, было холоднее: северный ветер гнал растрепанные авоськи дождя между домами, кидал в лица прохожих и извозчиков колючие капли, задирал женские подолы, румянил девичьи щеки и расцвечивал носы, кружил мокрую листву.
Расплатившись с лихачом, нигде не задерживаясь, Ермилов направил свои стопы прямиком к Варваре-турчанке, содержательнице небольшого притона в районе Хитрова рынка. Когда-то, еще работая в Московском Чека, Ермилов завербовал Варвару, сделал ее своей осведомительницей. Это тем более оказалось не сложно, что Варвара была осведомительницей полиции еще при царе, так что она как бы перешла к Ермилову по наследству. Но Варвара стала не просто осведомительницей Ермилова, но и его любовницей: красивая, стройная, смуглая от природы, да, к тому же, еще и умница, она сразу же привлекла к себе бездомного, одинокого чекиста.
Нет, Ермилов не влюбился. Он вообще полагал, что любовь только мешает настоящему революционеру в его предназначении, что чувства его и мысли не должны раздваиваться. Что же касается плоти, то это совсем другое дело, тут он против природы не волен, потребности должен удовлетворять, чтобы они, эти потребности, не оказывали на него деморализующего влияния.
Наконец, многолетний опыт подпольной деятельности, приучивший его к осмотрительности и необходимости заглядывать в будущее хотя бы на год-два вперед, понуждал Ермилова оставлять на всякий случай несколько боковых выходов. Случай же — и не всякий, а вполне определенный — вырисовывался в девятнадцатом году отчетливо и грозно: молодая Советская республика могла вот-вот пасть, и тогда спасение придется искать самому, ни на кого не надеясь, потому что в последнем поезде или пароходе, предназначенном для вождей революции, вряд ли найдется место для таких незначительных личностей, как Ермилов. В лучшем случае ему позволят умереть, прикрывая отход. Что ж, он готов и умереть. Ибо революция — это, прежде всего, жертвенность. И фанатичность — в лучшем смысле этого слова. Но и расчет — тоже. Умереть задаром — слуга покорный. Умереть, как умер горьковский Данко, да так, чтобы содрогнулись и пришли в ужас враги, — вот это здорово, вот это прекрасно!
Увы, такая прекрасная смерть выпадает единицам, и о ней можно лишь мечтать. Многие же его товарищи-чекисты находили свою смерть то ли в каком-нибудь зловонном переулке с финским ножом в спине, то ли в тифозном бараке, так и не успев сказать прощального слова. Впрочем, это тоже не самая худшая смерть. Но умереть в застенке деникинской или еще какой-нибудь белой контрразведки Ермилов не согласен. Как и от руки своих — по недоразумению или по чьей-то злой воле. Это унизительно. Поэтому, если ему не суждена высокая смерть, он предпочел бы переждать до лучших времен, уйдя на дно, чтобы потом начать все сначала. Ибо революция может потерпеть поражение, но не может вместе с ней сгинуть мечта рабочего человека о свободной и счастливой жизни.
А положение республики в девятнадцатом было действительно угрожающим: Деникин подошел к Туле, Колчак начал новое наступление в Сибири, Юденич вышел к окрестностям Петрограда, поляки заняли Минск… Ходили упорные слухи о готовящейся эвакуации петроградских, московских и Иваново-Вознесенских рабочих вместе с семьями на Урал, о предстоящем потоплении Балтфлота. Но самым показательным фактом неустойчивого положения советской власти было стремление высокопоставленных совслужащих и заслуженных революционеров залечивать на швейцарских и шведских курортах радикулиты и чахотки, заработанные в эмиграции и царских тюрьмах. Оформление их бегства проходило через ВЧК, чаще всего как загранкомандировка, ВЧК же распоряжалось и фондами для финансирования таких «командировок». Бежали, как правило, семьями и только с личного разрешения самого Ленина.
Уже из Петрограда вывозили все ценное — пока в Москву. Сюда же собирали золото и драгоценности, реквизируемые у церквей и монастырей, у буржуев. Частично ценности переправлялись за границу, в основном в швейцарские банки, где накапливались средства для новой эмиграции, для нового витка революционной борьбы. Мало у кого оставалось уверенности, что Советская республика продержится до нового, 1920 года: слишком огромными казались силы, мобилизованные мировым империализмом против нее, а мировая революция все не наступала и не наступала, отдельные выступления пролетариата Европы казались слабыми вспышками света в глухой ночи. Весьма недолго просуществовала Венгерская советская республика, еще меньше — Баварская. Конец Советской России, казалось, был предрешен. Поэтому борьба велась с отчаянием обреченных, которым было не жаль ни себя, ни других.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: