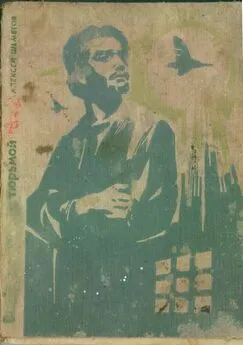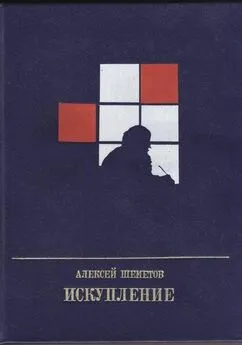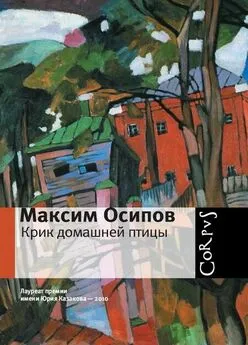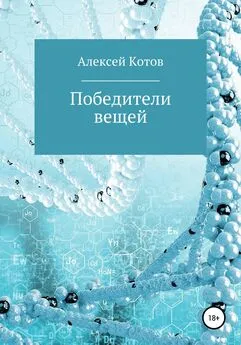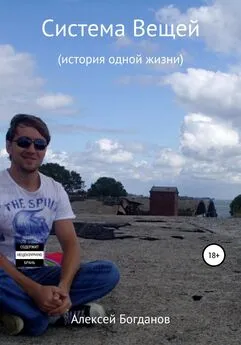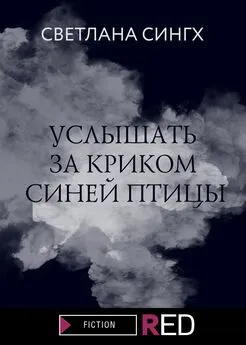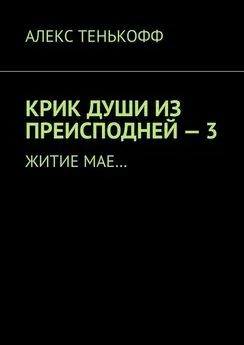Алексей Шеметов - Крик вещей птицы
- Название:Крик вещей птицы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1990
- Город:Москва
- ISBN:5-265-00657-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Шеметов - Крик вещей птицы краткое содержание
Повесть «Следователь Державин» посвящена самому драматическому периоду жизни великого русского поэта и крупнейшего государственного деятеля. Сенатор Державин, рискуя навлечь на себя страшную беду, разоблачает преступления калужского губернатора с его всесильными петербургскими покровителями. Радищев и Державин сражаются с русской монархией, один — слева, другой — справа, один — с целью ее свержения, другой с целью ее исправления, искоренения ее пороков, укрепления государства. Ныне, когда так обострилось общественное внимание к русской истории, повести Шеметова, исследующего социальные проблемы на рубеже восемнадцатого и девятнадцатого веков, приобретают особенный интерес.
Тема двух рассказов — историческое прошлое в сознании современных людей.
Крик вещей птицы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Выпрягши своего Карьку, вошел в вагончик зоотехник с огромным туесом. Я догадался, что в этом берестяном сосуде — айран, немного хмельной молочный напиток. В доме чабана никогда не водилось ни водки, ни вин. Но без айрана Матвей Васильевич, выросший среди хакасов, не представлял никакого сколько-нибудь примечательного застолья.
Анна Федоровна загрузила тарелки жареной мясной снедью и студнем.
Зоотехник, этот молоденький хакасский интеллигент с черными узенькими усиками, снял свои огромные квадратные очки, протер их батистовым платочком, надел и посмотрел на чабана с начальническим вниманием и хозяйской озабоченностью.
— Как, отара в сохранности? — спросил он.
— Три или четыре овцы вырвались, — ответил чабан.
— Ну, это не беда. Далеко не убегут, вернутся к отаре. Торжество не отменяется.
Чабан открыл туес, взял деревянную черпалку и наполнил пиалы айраном.
— Что ж, поздравляем вас с юбилеем, Матвей Васильевич, — сказал зоотехник. — Шестьдесят лет чабанства — это героический подвиг.
— Да, таких дураков мало, чтоб шестьдесят лет отдать овцам, — сказала Анна Федоровна.
— Не шестьдесят, а пятьдесят пять, — поправил Матвей Васильевич. — Пять лет надо скинуть.
— Ты и на фронте, поди, больше о своих овцах думал. Только думал, а я за тебя несла тут всю тяжесть. Черт бы ее взял, твою степь. Сам ничего хорошего не видел и мою жизнь скормил овцам. Вот возьму да оставлю тебя одного здесь в старости.
— Никуда ты не уйдешь, Аннушка, — улыбался Матвей Васильевич. — Сама прикипела к этой степи.
— Не уйду? Нет, вы посмотрите, какая уверенность! Хочешь, сейчас вот встану и уйду.
— Ну встань, — все улыбался он.
— Ирод и есть ирод. Ушла бы сию же минуту, да вот люди. Не для тебя старалась. Ешьте, ешьте, чего опешили? У нас всю жизнь такая ругань. Ешьте, и без разговора. Не стоит он добрых речей. Ешьте, и чтоб ни слова.
Долго все ели молча. Я, как, наверно, и зоотехник, и Петя, опасался, как бы разговор не обратился в серьезную ссору старых супругов. Даже Матвей Васильевич перестал улыбаться и недоуменно поглядывал на жену. Но потом он снова наполнил айраном пиалы и заговорил:
— Да, много пожито… Всякое было. Моя Анна Федоровна — вот кто настоящий-то герой. Я сызмальства сросся со степью, мне легко, но вот Аннушке было страшно как тяжело, и она все ж таки не сбежала обратно в город. Преодолела себя, а преодолеть себя редко кому под силу.
— Не лебези, не задабривай, — сказала Анна Федоровна. — Подумаешь, геройство. Жалко было тебя, дурачка, потому и не сбежала. Да и убегала, а потом смирилась. Дура, конечно, набитая дура.
Зоотехник поднял пиалу.
— За дураков и за дур, за таких, как вы, подвижники тонкорунного овцеводства.
Анна Федоровна ничего на это не ответила. Подняла пиалу, как и все другие.
Матвей Васильевич выпил айран, закурил трубку.
— А ведь все труднее становится с отарами-то, — заговорил он. — Как ты думаешь, специалист, что будет дальше с нашим овцеводством? Развивать, развивать, твердите, а как? Пастбищ осталось совсем мало.
— Зато полей стало больше.
— Но где пасти? Тонкорунную овцу в стойло не запрешь, соломой, даже сеном не прокормишь, зерно тоже для нее не годится. Ее надо круглый год пасти. Она приспособлена к зимней тебеневке.
— Матвей Васильевич, неужели я это не знаю?
— Знаешь, лучше меня знаешь, но ответь мне. Если увеличим поголовье, где пасти? Где прежние степи? Почти все низины под полями. Хорошо, что не смогли распахать холмы и увалы, да вовсе каменистые равнинки. В Казахстане взялись поднимать целину, и наше руководство не захотело отставать от нового дела. Распахали здесь тысячи и тысячи гектар непригодных для пашен земель. Поднялись наши хакасские ветры и унесли почву в Енисей да Абакан.
— Это была, конечно, ошибка.
— Ошибка? Нет, глупость. Пожалуй, и преступление. Сколько было здесь полей, столько бы и оставить. Нет, поднятую целину захотели показать, не отстать от казахстанцев. Ободрали землю. Я тут с археологами близко сошелся. Здесь во многих местах раскопки. Один рассказал мне страшную вещь. Чтобы образовался слой почвы в десять сантиметров, понадобилось двадцать четыре века. Соображаешь? Когда же можно будет пасти овец на этих ободранных землях?
— Создадим искусственно почву.
— Хотел бы я посмотреть, как ее создадите.
— Не беспокойтесь, Матвей Васильевич, мы не только сохраним здешнее тонкорунное овцеводство, но и разовьем его.
— Но как, как? Объясни мне, ученый человек.
— Тонкорунное овцеводство зародилось здесь три с половиной тысячи лет назад…
— Знаю, мне один ученый раскопщик показывал клочок ткани. Из тонкой шерсти. Говорил, что это остаток одежды, какую носили за тридцать пять веков до нас. И что же из этого?
— Если темные племена сумели сохранить такую важную хозяйственную отрасль, неужели мы не сможем научно развить тонкорунное овцеводство? Раз оно дошло до нас от динлинов…
— Не дошло, — перебил чабан. — Оно исчезло здесь накануне нашей эры, когда пришли сюда гунны. Они привели грубошерстных овец, а тонкорунные постепенно вывелись. Нынешних мериносов завезли сюда из России, совсем недавно. Кочебай подростком пас еще грубошерстных овец. Так что не от динлинов пришло наше тонкорунное овцеводство.
— Ну, откуда оно пришло, это не имеет значения. Мы сохраним его и разовьем, не беспокойтесь.
— Дай-то бог. Ты уж тем, зоотехник, молодец, что остался в степях, а то ведь хакасская молодежь почти вся в города уходит. Правда, вот мой помощник не собирается удирать. Из молодых один такой нашелся. Даже на учебу не выехал, ездит только экзамены сдавать. Молодчина. — Чабан ласково похлопал Петю по плечу.
— Разве Петя хакас? — спросил я, с удивлением глядя на белокурого голубоглазого паренька.
— Что, не похож? — сказал Матвей Васильевич. — Чистокровный хакас. И отец его такой же светловолосый. В них, видать, сохранилась кровь динлинов… Да, смотрю я все на курганные плиты и думаю: как люди жили тысячи лет назад?
— Дико, конечно, жили, — сказал зоотехник.
— Откуда ты знаешь? Война — вот самая дикая дикость. А у динлинов не было ружей, даже стрел.
— И не было никакой цивилизации.
— Для них хватало того, что имели. Много чего у них не было, зато им в страшном сне не могла привидеться такая война, какую мы пережили. У кого больше дикости? У тех, кто грозит взорвать Землю, или у мирных динлинов?
— А класть в могилу с покойником его жену — это не дико?
— Да, был такой обычай тогда. Страшный, конечно. Но его надо еще разгадать. Может, жена тогда была в самом деле половиной мужа. Может, она и впрямь жить не могла без него, так была предана, так любила. Нынче тоже часто говорят — жить без тебя не могу, да это ведь только слова. Кто из нынешних жен захочет умереть вместе с мужем? Разве что моя Анна Федоровна. Как, Аннушка, пойдешь за мной в могилу?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: