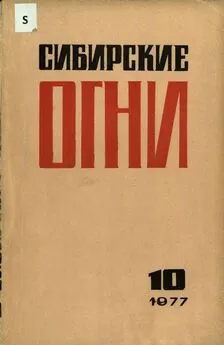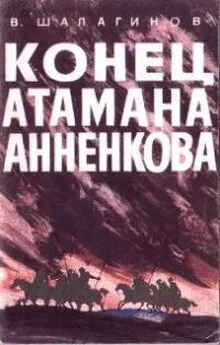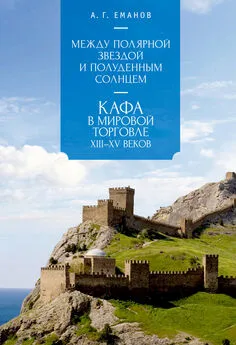Вениамин Шалагинов - Кафа
- Название:Кафа
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Западно-Сибирское книжное издательство
- Год:1977
- Город:Новосибирск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вениамин Шалагинов - Кафа краткое содержание
Кафа - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Стоп, стоп...
Чаныгин торопливо приткнул самовар на залавок, руки его неуверенно полезли в стороны, открывая могучие объятия.
— А ну-ка еще словечко!.. Гришка? Крещеные болтают, кончили его... Чертушка! — Он с полного замаха хватил гостя под ребро, потом с другой стороны. — Живой!
И опять — с полного замаха.
— Живой! Кепчонка на нем... с австрияка, что ли. Очки. Обулся в бороду. Да от тебя, варнака, родимая маманя откажется.
— Да оставь! Ты! Ломыга урманный! [18] Ломыга урманный — медведь.
Григорий пятился, прикрывая бока локтями, смеялся как от щекотки. В чернущей его бороде сияла белая подковка зубов.
— Калачи бы хоть пожалел. Все ведь на полу. Слышь?
Через две-три минуты они сидели в горенке за бело-розовой клеенкой с полустертыми от времени, чинно бредущими петухами и цаплями. Уже примолкший медный самовар, начищенный до сияния кирпичной толочкой, которую на этот случай забирают здесь в мокрую рыхлую тряпицу, выглядел празднично, сверкал на солнце орденами, да и то, что окружало его в туесках и тарелках, говорило о празднике, которого, правда, в святцах пока не было.
— Тут Федька Портнягин был, — сказал Чаныгин, обрезая с мосла медвежатину и круто подсаливая из деревянной солонки.
— Чего это он?
— В Иркутск метил. А вообще-то предупредить завернул. Сюда, в мои хоромы... — Чаныгин постучал по столу колодкой ножа, — некая сволочь имеет явку. Бумаги чистенькие, а за голяшкой нож.
— Да! — встрепенулся Григорий. — У меня тоже явка к тебе.
— Ты наш. Бумажку не потребуем.
Григорий будто не слышал.
Он потянулся к стоявшей на стуле гармошке, снял ажурную дощечку, сцарапал в углу коробки хлебный мякиш и вынул из щелки-окопчика скрученную жгутиком шелковку.
— Парфен-то дома? — спросил он, передавая шелковку Чаныгину.
— Топает. — Чаныгин нацепил очки. — Кто подписал тут? Бердникова?
— Бердникова уже в Черемхово.
— Бери, — вернул Чаныгин шелковку. — Так-то вот. Ждем. А гвардия у нас почти вся в сборе. Иван Вдовин, Грачев, Вострокнутов, братаны Терентьевы... Данилка вырос. Такой стал орлище! Помнишь его? Ну, ну, Цыганок, дяди Митяя внучонок.
Чаныгин перевернул кружку донышком вверх, привычно мазнул глазами по скорбным ликам над божничкой.
— Что замолчал? — спросил гость.
Григорий поднялся, обошел Чаныгина со спины, навис над ним, обнимая за плечи.
— Не слышу главного, Степан. Говори напрямую, не щади.
— Худо, Гриша. Что она под расстрелом, слышал, конечно? Восемь дён уже. Восемь.
— Выручать пробовали?
— Было. Секундами не сошлись. Тюрьму обвели вокруг пальца. Кафа — у переезда в машине, мы — рядышком. — Чаныгин вздохнул. — Пронюхал кто-то. Быстренько подняли казачишек. А тех, что саранчи: небо закрыли. Т-тюк и — осечка.
— Ну, а как дальше?
— Набег на тюрьму.
— Власть брать надо, Степан.
— Знаю эти слова. Сам говорил.
— Их мало, нас больше. Арифметика простая.
— Простая, — подтвердил Чаныгин, передвигая по клеенке к месту, которое оставил Григорий, обрезанную наполовину гильзу снаряда с табачным крошевом. — Простая, да не простая. Вчера на путях было семь эшелонов. А вот сходи, глянь, сколько сегодня. Все шестнадцать путей забиты... И каждый казачина, заметь, в черной папахе. У такого ни Христа, ни креста, ни отца с матерью.
— А может, и за нас какие? Теперь-то и под черной папахой красный ветер не в диковинку.
— Нарядно что-то говоришь, Григорий.
— Жизнь так говорит.
— Казачишек, Гриша, и мы пытаем и агитируем, — громко, со скрытой обидой в голосе, сказал Чаныгин и тоже встал, пристукнув по столу ладонями. — Да вот душа у них в шерсти. В той же маньчжурской папахе. Попробуй прощупай такого.
— Эх вы, курощупы!
Тень презрения скользнула своим темным крылом по лицу Григория.
— Я не сержусь, — сказал Чаныгин. — Понимаю. Но пойми и ты меня. — Он подошел к гостю, глядевшему в окно поверх занавески, поставил на подоконник табачок в гильзе. — Кури, выдерга! Покурим, потянем, родителей помянем. Твои-то где? В Заларях или в Зиме?
— Там. — Григорий поднял глаза на потолок.
— Не старые ведь еще...
— Бог принимает всяких... — Григорий подогнул желобком газетную дольку, щепотью выложил на желобок крошево самосада и стал скручивать. — Зверски хочу спать. Ты не поверишь, плыву сейчас на пароходе. Ночь, звезды, гляжу на небо и вижу твои старые сани. И будто стоят они, как и раньше, на самой середке двора. Помнишь, как спали на них с тобой? Пес еще у тебя был тогда знаменитый... Бобка или как его... Просыпаюсь однажды, а он на моих ногах с костью пристроился. Комфорт полный, а еще и рычит, грозится. Вот и я у тебя сейчас вроде такого гостя.
— Ладно тебе... с признаньями... Бери вон в сенцах подушку и мотай под навес. Там теперь сани. И тюфяк на месте, и та же волчья полость. Поспишь, как в сказке.
— А Данилка не прирежет?
— Ты что?
— Такой на душе камень, Степа! — Лицо Григория исказилось, в целящемся прищуре качнулась тоска. — Эх-ма, волчья ягода, горькая да смертная! Пошли вместе! Посидим, потолкуем на свежем воздухе.
Сидели на задке широких розвальней, неудобно поставив ноги, и молча курили. Наверху по слеге ходил, вздувая зоб и царственно двигая головкой при каждом шажке, голубь-бормотун, весь в белом блестящем оперенье, и только один его нежный голос нарушал поселившуюся здесь тишину. От пучков под матицей пахло укропом, богородской травой, привядшими листьями березы, а от покрытой мокрым мешком бадейки — распаренными отрубями. Рука Григория с папироской лежала на коленях. Тающая сининка дыма плыла и не плыла, он глядел на нее и думал о пароходе, о солдате, о том, с какими чувствами ехал сюда, о санях, которые вновь стали его приютом. Сани, сани! Конечно, они все еще ждут своей новой дороги, звона колокольчиков под дугой, неохватного простора, таинственного, мудрого шума в верхушках тайги, игрищ, свадеб, разудалой суеты масленицы, клади в мешках, с которой любовно смахивают снежок рукавицей. Но нет в них такой клади, нет и не будет возницы, коня, дороги.
Не будет своего дела.
А у него, у Григория?
— Коровенку-то, Степан, держишь? — спроси он.
— Какой там! — отмахнулся Чаныгин.
Лица гостя Чаныгин не видел, но по его голосу, по каменной неподвижности, по руке с папиросой, бесчувственно свисавшей с колена, по смыслу того, о чем тот спрашивал, — случайное, одинаково неинтересное обоим, — он догадывался, как тяжко было сейчас Григорию. На минуту увидел, как он на улице читает приговор Кафе, и ужаснулся. Заплаты серо-лиловых красок смерти все еще лезут в глаза с заборов, и Чаныгин, как и раньше, не может видеть их без волнения. Каково же тогда Григорию? Конечно, впервые он встретил этот приговор на пристани. Белый пароход. Сутолока. Чаныгин представил Григория с его самодельной гармошкой на залощенном ремне. Принужденный обстоятельствами играть повесу, свадебного гостя, он легкой беспечной походкой обходит ямщичью биржу и по отвесной лестнице взбирается на яр с его голубым палисадником на красной глинистой гриве, с рябинами и часовней. Возле сивого строения на кирпиче — это стражницкая — мужики читают налепленную на телеграфный столб печатную бумагу. Григорий тянется через головы... Кафа! Многие в Городищах знают их за жениха и невесту. А кой-кому ведома и трудная история этой любви.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: