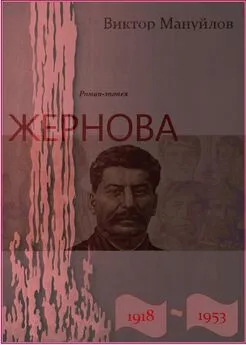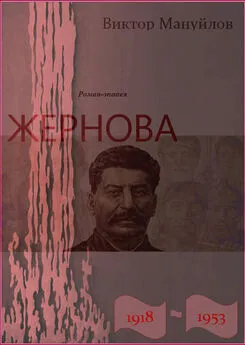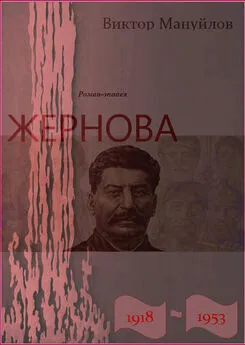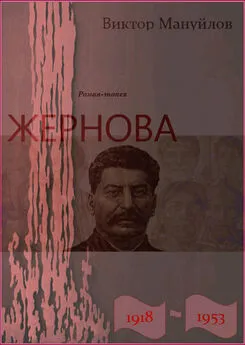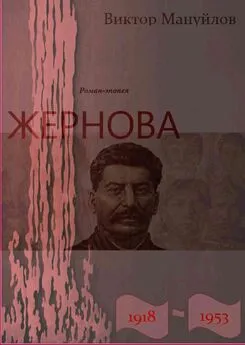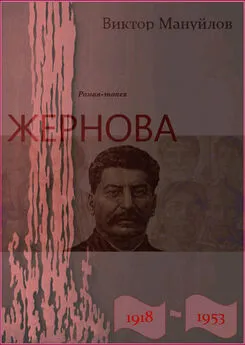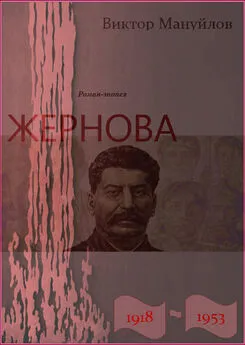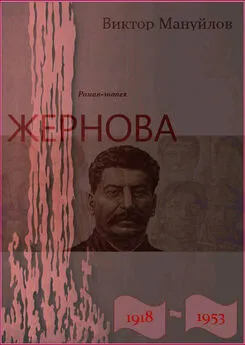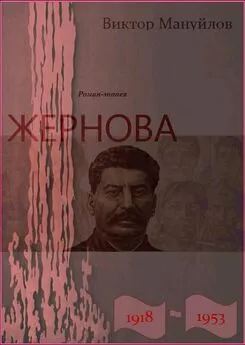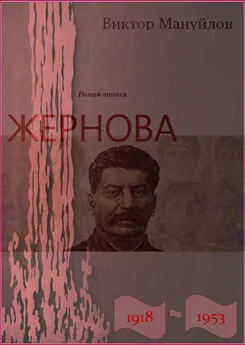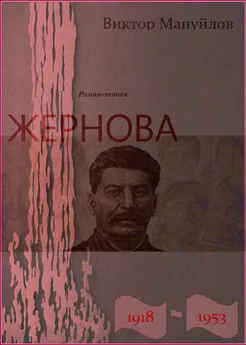Виктор Мануйлов - Жернова. 1918–1953. Обреченность
- Название:Жернова. 1918–1953. Обреченность
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Мануйлов - Жернова. 1918–1953. Обреченность краткое содержание
Мастерская, завещанная ему художником Новиковым, уцелевшая в годы войны, была перепланирована и уменьшена, отдав часть площади двум комнатам для детей. Теперь для работы оставалось небольшое пространство возле одного из двух венецианских окон, второе отошло к жилым помещениям. Но Александр не жаловался: другие и этого не имеют.
Потирая обеими руками поясницу, он отошел от холста. С огромного полотна на Александра смотрели десятка полтора людей, смотрели с той неумолимой требовательностью и надеждой, с какой смотрят на человека, от которого зависит не только их благополучие, но и жизнь. Это были блокадники, с испитыми лицами и тощими телами, одетые бог знает во что, в основном женщины и дети, старики и старухи, пришедшие к Неве за водой. За их спинами виднелась темная глыба Исаакия, задернутая морозной дымкой, вздыбленная статуя Петра Первого, обложенная мешками с песком; угол Адмиралтейства казался куском грязноватого льда, а перед всем этим тянулись изломанные тени проходящего строя бойцов, – одни только длинные косые тени, отбрасываемые тусклым светом заходящего солнца…»
Жернова. 1918–1953. Обреченность - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я нехотя рассказывал Кате все, что знал от Николая Ивановича о технике письма маслом, практическое применение которого Николай Иванович оставлял на потом. Я не верил, что эти знания пригодится и Кате. Более того, я заметил, что для нее важнее всего не то, что я ей говорю, а то, что она сидит со мной рядом, прижимается ко мне то своим острым плечом, то упругой грудью, – а груди у нее, у четырнадцатилетней, такие же, как у Ольги, – время от времени поглядывая на свою сестру торжествующим взглядом.
Как, однако, заметны в поведении человека все мелочи, когда к этому человеку ты не испытываешь никаких чувств, кроме досады и раздражения. Я даже Катей не мог ее назвать про себя, а только Катькой. Рассказывая Катьке о красках и о том, как их смешивать, мажа на кусочке холста то небо, то гребень волны, я думал, что из нее вырастет черт знает что, если она в таком возрасте готова повеситься на почти взрослого парня, и забывал о том, что когда-то была Рая, что мне не было четырнадцати, и нас тянуло друг к другу с такой же силой, с какой, быть может, тянет Катьку ко мне. А ведь еще была Ната… в набитой людьми теплушке, везущей нас в таинственную Константиновку, и той Нате было восемнадцать лет – больше, чем Ольге, – а мне только восемь.
Ольга поместилась чуть в стороне, листала наш семейный альбом и в нашу сторону не смотрела.
– А если небо вечером, то какую краску надо брать? Ультрамарин? Кобальт синий? Или церулеум? – спрашивала Катька, заглядывая на холст из-за моего плеча. – А море? Вот как у тебя получилось так, что вода прозрачная, как живая?
– Понятия не имею, – отвечал я, косясь на безучастную Ольгу и пытаясь отодвинуться от Катьки. – Это невозможно рассказать. Сколько бы мне, например, Айвазовский, будь он жив, ни рассказывал, как писать море, но так, как он, я все равно не сумею. Пиши море, небо, облака, авось что-нибудь получится. Было бы желание… И вообще, давайте пить чай. Вернее, обедать. Я есть хочу зверски, – закончил я и поднялся с кушетки.
– А что у вас обедать? – тут же подхватилась и Катька.
– Борщ.
– А на второе что?
– Тоже борщ. И компот. Если хочешь, сварю тебе манную кашу. Или картошку.
– Фу! Я давно не ем манную кашу, – надула свои губки Катька.
– Оль, а ты будешь борщ?
– Буду.
Я перебрался на кухню и принялся накачивать примус. Поставив на него кастрюлю с борщом, стал растапливать плиту: в нашем домике, слепленном из дерева и глины, еще держалась зимняя сырость и было холодно, несмотря на солнечную теплую погоду, установившуюся в последние дни, но с дровами было туго, приходилось экономить.
Ольга, уже не раз бывавшая в нашем доме, расставляла на столе посуду, а Катька присела рядом со мной на корточки, обхватила рукой меня за шею, прильнула к моему боку и уставилась на огонь.
– Слышь, Кать, ты, что, самостоятельно сидеть не способна? – сердито выговариваю я, запихивая в печку корявое полено.
– А тебе жалко? – восклицает она удивленным голосом.
– Оленька, ты бы объяснила своей сестре, что такое хорошо, а что такое плохо.
– Да ей уже и мама объясняла – не понимает, – вздыхает Ольга.
– У-у, вредный, – говорит Катька и, вскочив, усаживается на табуретку. В глазах у нее блестят слезы.
Мы с Ольгой в растерянности переглядываемся.
– Как к Ольке – так Оленька, а ко мне – так Кать-Кать.
– Ну, хорошо: Катенька, Катюша…
– Не надо мне твоих Катенек-Катюш. Обойдусь. И борщ твой противный есть не буду.
– Это с чего он стал противным, если ты его ни разу не пробовала? – пытаюсь я как-то замять ссору.
– А с того. Я знаю: вы с Олькой целуетесь. Вот. Вас Ленка Прутихина видела.
– Ей показалось, этой твоей Прутихиной! – вскакиваю я. – А если бы даже и целовались, так что? Ольге скоро семнадцать, у нее паспорт, а ты еще…
– Витя! – вовремя остановил меня Ольгин отчаянный голос. – Не надо, пожалуйста… Давайте за стол: все готово.
– Не буду я за стол! – всплескивает руками Катька. – Не буду и не буду! Вы все меня не любите, я все одна и одна! Вот возьму и утоплюсь, – уже рыдает она, уткнувшись в угол.
Я не знаю, что делать. И Ольга не пытается прекратить истерику своей сестры. Тогда я подхожу к девчонке, беру ее за плечи и говорю тихо, как маленькой девочке, словами моей мамы:
– Ну, Катенька, ну хватит, а то глазки заболят, обрастут морщинками, станут некрасивыми. Куры будут смеяться, вороны каркать, кошки мяукать…
Катя передергивает плечами, всхлипывает все реже и тише, затем поворачивается ко мне, прижимается мокрым лицом к моему плечу. Я глажу ее по голове, а сам смотрю на Ольгу, и она, глядя на меня, улыбается натянуто и глупо, как наверняка улыбаюсь ей и я.
Катька наконец успокаивается и садится за стол.
Мы едим борщ в полной тишине. На раскрытом окне легкий ветерок колышет кружевные занавески, в кустах орешника на берегу ручья заливается какая-то пичужка, и не верится, что совсем недавно, каких-нибудь два-три часа назад, мы стояли в сквере возле памятника Сталину, что из репродукторов… Но может, все та же музыка звучит и сейчас, однако я не включаю старую коробку громкоговорителя, изъеденную древоточцами: хочется солнца, жизни и совсем другой музыки.
После борща мы едим сырники и запиваем их компотом из сухофруктов.
– А мы скоро поедем на экскурсию, – сообщает Катька обычным своим беспечным голосом, как будто и не рыдала несколько минут назад.
– И куда же вы поедите? – спрашиваю я, чтобы как-то отвлечься от всего, что было.
– В Чайсовхоз. Там скоро начнут раннюю уборку чая. Вот.
– Скоро – это где-то в мае, – говорю я.
– Ну и что? Все равно интересно.
– Расскажешь потом, что ты там увидела, – продолжаю я, лишь бы что-то сказать, но на Катю эти слова производят странное впечатление: она проглотила недожеванный кусок сырника и уставилась на меня Ольгиными серыми глазищами.
– Правда-правда?
– Я думаю, – пытаюсь я вывернуться из щекотливого положения, – что нам с Олей будет интересно тебя послушать. Правда, Оленька?
– Правда, – чуть ли ни шепотом отвечает Ольга, пряча от меня глаза.
Я окончательно стушевываюсь и не знаю, что сказать. Слава богу, как говорит мама, обед закончен, и можно отвлечься на мытье посуды и другие дела. Но Катька проявляет вдруг такую прыть, какой от нее трудно было ожидать:
– Я сама! – вскричала она, отодвигая меня в сторону. – Я сама все уберу и помою. Ты только покажи, в чем мыть.
Я даю ей алюминиевый тазик и показываю на чугунок на плите с уже горячей водой.
– А вы идите в комнату, – велит нам она с необычным великодушием. – Можете целоваться, – и сама закрывает за нами дверь.
Вот и пойми после всего этих женщин.
В комнате я привлекаю к себе Ольгу и спрашиваю:
– Я что-то делал не так?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: