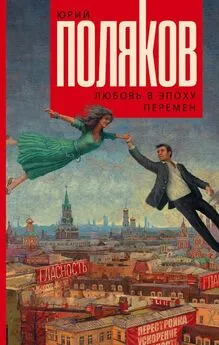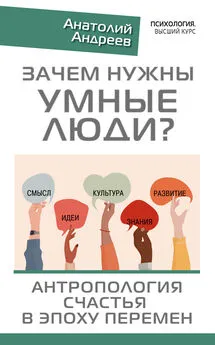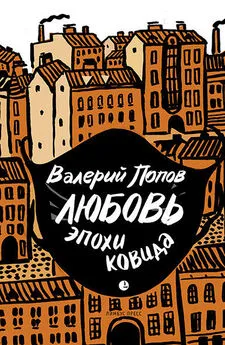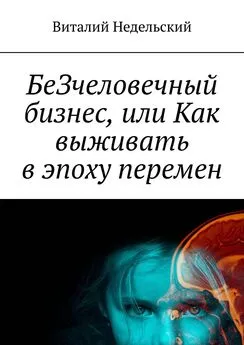Валерий Попов - Жизнь в эпоху перемен (1917–2017)
- Название:Жизнь в эпоху перемен (1917–2017)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Страта
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-9500266-9-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Попов - Жизнь в эпоху перемен (1917–2017) краткое содержание
Опираясь на документальные свидетельства, вспоминая этапы собственного личностного и творческого становления, автор разворачивает полотно жизни противоречивой эпохи.
Жизнь в эпоху перемен (1917–2017) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Естественно, и первые свои гонорары мы несли сюда. Первый в моей жизни гонорар за детский рассказик — целых сорок рублей — я, разумеется, потратил на «Крыше». И как потратил! Я был с моим другом Андреем Битовым, а также были приглашены четыре знакомых манкенщицы из Дома мод — по две на каждого! И денег хватило. И даже слишком. В какой-то момент Битов, любивший самоутверждаться в активной форме, пошел прогуляться вниз и с кем-то там не поладил. Нам сообщили об этом друзья-официанты. Когда мы сбежали вниз, четыре милиционера пытались прижать Андрея к мраморном полу, но он не давался и даже называл стражей порядка сатрапами, при этом почему-то обвиняя их в том, что они не знают, кто такой Иван Бунин. «Знаем, знаем!» — приговаривали они, постепенно все-таки придавливая нашего богатыря, примерно как лилипуты Гулливера.
Дальше я передаю слово другому классику, Василию Аксенову, который тоже оказался участником данного эпизода, но рассказал о своем видении этого несколько позже. Они с Асей Пекуровской, женой Сергея Довлатова, направлялись тоже на «Крышу». При этом они спорили. Василий Аксенов утверждал, что в Ленинграде нет молодых сильных писателей. И тут они вошли в холл и увидели Битова, которого с трудом удерживали в горизонтальном положении четверо милиционеров.
— Вот, например, очень сильный молодой ленинградский писатель! — произнесла Ася, грациозно указывая нараспластанного Битова.
Битов поднял голову, увидел Аксенова и кивнул, при этом почему-то оскалясь. Так произошла встреча двух мощнейших литературных поколений (Аксенов все же был на пять лет старше). И как произошла эта встреча! Можно сказать, в бою с силами реакции! Довлатов, который был помоложе нас и принадлежал уже к следующему поколению, можно сказать, тоже участвовал в этой встрече — хотя и косвенно, через свою жену, с которой он вскоре развелся… но это неважно. Встретились на самом деле три поколения российской литературы! Причем — где! И как! А если считать и Бунина, который тоже тут косвенно участвовал, то и четыре славных литературных поколения встретились в этот миг! Вот какая замечательная тут была жизнь.
Бродский на «Крыше» бывал реже, и из-за надменности своей, сочетаемой с мучительной застенчивостью, держался особняком. Но сидел за столиком, разумеется, не один. В то время он уже входил в моду на Западе, начались его публикации, но здесь мы пока их не видели. Главными признаками его мирового признания были тогда хорошенькие западные славистки, которые ехали к нему косяком, чтобы писать курсовые, и вместо гонораров (валюту нельзя) везли джинсы. Он приводил их на «Крышу» и говорил, как было свойственно ему, страстно и без перерыва — так что встревать было глупо.
Один лишь раз мы оказались за столиком — встретились взглядами, поздоровались и пришлось присесть. В тот раз с ним была Марина, худая, большеглазая, с челкой — несчастная его любовь. Иосиф, всегда возбужденный, в этот раз нервничал еще сильней.
— Валега! — надменно, как мне показалось, картавя, произнес он. — Я пгочитал твой гасказик в «Молодом Ленинггаде». Недугственно!
— А я там прочитал твой стишок! — в том же тоне ответил я.
То было его единственное напечатанное здесь стихотворение — «Я обнял эти плечи и взглянул»…
— Но это разные вещи! — он горделиво поднял голову. — У меня восходящая метафора, а у тебя — нисходящая!
«Восходящая, нисходящая! — подумал я. — Чего он так задается?»
Был момент, когда я хотел сощелкнуть стоявшую перед ним чашечку кофе ему на джинсы — но взял себя в руки. Здесь такое не принято! Братья по «Крыше» так себя не ведут. И мы продолжили интеллигентную беседу… Марина молчала, как всегда.
Когда через двадцать пять лет я оказался в Америке по его вызову, и мы должны были встретиться, я несколько нервничал. Когда-то мы с ним спорили… а вот теперь он — нобелиат! Как держаться?
И вот в аудитории появился Иосиф, пошел ко мне, улыбаясь… Я встал.
— Валега, пгивет! — произнес он. — Ты изменился только в диаметге!
Да и он изменился — толстый, лысый — два инфаркта позади. Да — нелегко далась ему «нобелевка»! При этом — одет он был так, словно ехал не на конференцию международную, а на рыбалку.
— Привет, Иосиф!
Мы обнялись… Братья по «Крыше» — братья навек!
Интересно, однако — что собрала нас «Европейская», соединившая все лучшее, что было до революции…
Глава семнадцатая. Наездники Пегаса (1934–1969)
Когда я, выпустив пару книг, решил поступать в Союз писателей, заботливый Кошкин дал мне истрепанную брошюру-инструкцию «Первый съезд писателей СССР».
Происходил он в 1934 году, когда лучших писателей уже замордовали — Булгакова, Платонова, Мандельштама. Не справившись до конца с ролью «глашатая революции», застрелился Маяковский. Повесился Есенин… «А я вот жив, здоров — и на Съезде!» — такая мысль, наверное, взбадривала многих. У Колонного зала стояла толпа зевак, и самых именитых писателей встречали аплодисментами. Впрочем — и не именитых тоже. Звонкий юношеский голос восклицал: «Уважаемые делегаты! Поднимите свой исторический мандат и громче назовите свое имя и фамилию! Народ должен знать вас!». После чего тот же звонкий голос называл имя и фамилию делегата громко, чтобы слышали все! Приведем из того списка лишь самых прославившихся, прошедших через толщу веков: Анфиногенов! Бабель! Бедный! Бровка! Веселый!
Что ни говори — это был самый яркий съезд, особенно на фоне последующих… Но большинство имен теперь, увы, неизвестны… впрочем, не все известны были уже и тогда. Большое внимание уделялось представителям национальных республик: Дунец, Дорогонченко, Елибаев.
Были, ясное дело, литературные «надсмотрщики»: Ермилов! Эта фамилия любителям литературы даже очень известна: один из самых страшных сталинских критиков — часто его статья предшествовала приговору. Еще его называли «флюгер революции»…
Но много талантливых и успешных: Вс. Иванов. Илья Ильф. Зощенко. Инбер. Квитко. Кассиль. Кирпотин. Киршон. Либединский. Маркиш. Маршак. Новиков-Прибой. Олеша. Павленко (будущий четырежды лауреат Сталинской премии). Пастернак (будущий лауреат Нобелевской премии, от которой ему пришлось отказаться). Петров. Пильняк. Погодин. Саянов. Светлов. Сейфуллина. Серафимович. Сергеев-Ценский. Слонимский. Соболев. Ставский. Сурков. Табидзе. Тихонов. Толстой. Тренев. Фадеев. Федин. Чуковский. Чумандрин. Шагинян. Шишков. Шолохов. Эренбург. Ясенский. Яшвили.
Большой парад! И всех тут перечислить, конечно, нереально. Кроме делегатов с правом голоса были делегаты и с голосом совещательным, но их тоже звонко «оглашали». После чего «оглашенные товарищи» (как, помню, шутили мои мама с папой) входили в празднично убранный Колонный зал Дома Советов… Над президиумом висели знамена и два огромных портрета — портрет Сталина посередине и рядом, чуть поменьше, но тоже большой, портрет Горького. Уважали! Белый бюст Ленина внизу на сцене казался маленьким. Перед съездом долго решали, как украсить зал. В конце концов решили развесить по стенам портреты классиков. Как шутили, рассаживаясь в зале, писатели: Лев Толстой наверху, Лешка Толстой внизу. Но «наш Толстой» тоже не подкачал — почти на всех фотографиях Горького на съезде рядом (правая рука!) — Алексей Толстой. Да и многие в том зале надеялись «продвинуться»… Пришлось всем подняться — на сцену выходили вожди… главный «скромно» не явился — мол, я не вмешиваюсь, работайте! Тут и выяснилось, что не так уж все писатели между собой и равны, каждый по своему подготовился к съезду. Право называть имена вождей досталось Николаю Тихонову, «серапиону», ставшему к тому времени признанным «певцом революционной романтики»… Он действительно был талантлив. Во всем! Другой «серапион», Каверин, вспоминает — с каким мастерством, с каким упоением и восторгом, «время от время перехватывающим горло», называл имена вождей Николай Тихонов: «Молотов! Каганович!» И — пошел Тихонов в гору! В зале, внизу, сидели рядом два «серапиона» — Каверин и Шкловский, и Шкловский язвительно сказал Каверину про Тихонова: «Жить будет, но петь — нет!». И как в воду глядел! Правда, сам Шкловский довольно скоро продемонстрировал, что и он тоже «хочет жить».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
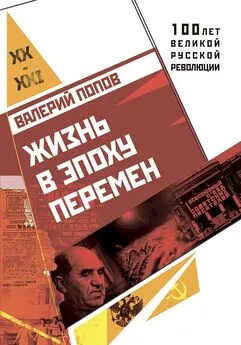
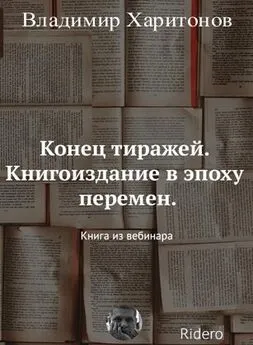
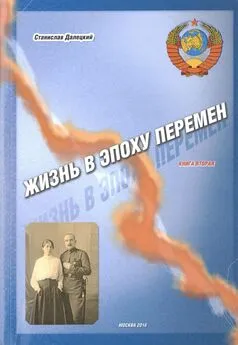
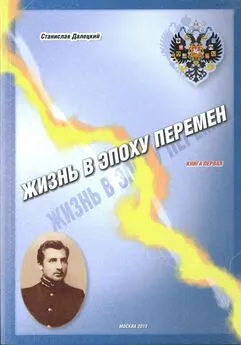

![Валерий Попов - Сон, похожий на жизнь [Повести и рассказы]](/books/1082420/valerij-popov-son-pohozhij-na-zhizn-povesti-i-ras.webp)
![Валерий Попов - Жизнь удалась [Повесть и рассказы]](/books/1082436/valerij-popov-zhizn-udalas-povest-i-rasskazy.webp)