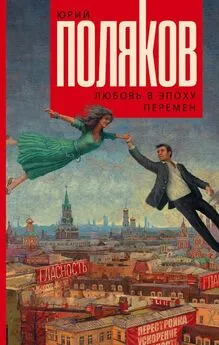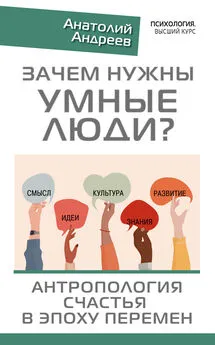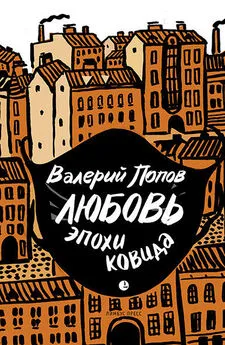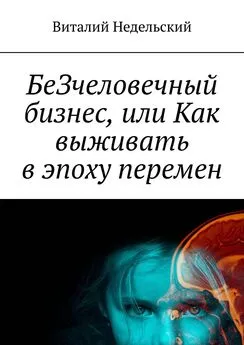Валерий Попов - Жизнь в эпоху перемен (1917–2017)
- Название:Жизнь в эпоху перемен (1917–2017)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Страта
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-9500266-9-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Попов - Жизнь в эпоху перемен (1917–2017) краткое содержание
Опираясь на документальные свидетельства, вспоминая этапы собственного личностного и творческого становления, автор разворачивает полотно жизни противоречивой эпохи.
Жизнь в эпоху перемен (1917–2017) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Было и другое, не менее интересное. В своей речи Илья Эренбург резко говорил «о красных и черных досках, на которые критика абсолютно произвольно заносит писателей, и сеет вражду». Эренбург выступил против коллективных сборников, посвященных разным проблемам, где писатели, подчиняясь задаче, порой выступают даже без имени, в общем тексте… что, безусловно, приводит к их обезличиванию. Эренбург, конечно, имел в виду тот гигантский (и как выяснилось позже, бесполезный и даже вредительский) труд под названием «Беломоро-Балтийский канал имени Сталина». Гневную отповедь «западнику» Эренбургу дал «серапион» Всеволод Иванов, сказавший, что Эренбурга, конечно, больше привлекают зарубежные поездки, а вот остальных писателей больше тянет вглубь страны.
Поэт Алексей Сурков, позже широко прославившийся военными стихами («Бьется в тесной печурке огонь…»), вдребезги раскритиковал современное искусство, излишние чувствования обозвал «лимонадной идеологией», популярнейший фильм «Веселые ребята» назвал издевательством над реальной жизнью.
Талантливая и весьма знаменитая тогда революционная писательница Лидия Сейфуллина призывала писателей к большей ответственности в сочетании с самостоятельностью, а то, как сказала она, «нынче писатель не прочь и корректуру своих произведений возложить на Политбюро».
Многие из выступавших ругали критику, говорили об ее безответственности и безнаказанности, и что надо бы навести тут порядок… Это тоже, наверное, вселило в Зощенко некоторые надежды… может быть, не будут теперь так грубо, и главное, так глупо, ругать?!
Я, побывав в своей жизни на писательских съездах, правда, значительно более поздних, скажу, что на их фоне I съезд даже в стенограмме сильно выигрывает! Было за чем следить и даже на что надеяться, порой даже искренне восхищаться, хотя было и чего пугаться. В общем — роман! Да и действующие лица какие!
Выступили на съезде Пастернак, вполне лояльно и даже революционно, Маршак (с безошибочной речью: надо больше писать для детей!), Луговской, знаменитые зарубежные писатели, выразившие свое восхищение переменами, происходящими в стране… Выступил один из лучших наших писателей — Юрий Олеша, один из немногих, с кем Зощенко дружил. Вот цитата из речи Олеши:
«Мне трудно понять тип рабочего, тип героя-революционера. Я им не могу быть. Я хочу создать тип молодого человека, наделив его лучшим из того, что было в моей молодости.»
Суть речи Олеши — «я не могу почувствовать себя в чужой шкуре»… но — попробовать обещал. Своей яркостью, неординарностью, неуправляемостью они были похожи с Зощенко. Обоих пытались «перековать», но переживали они это по-разному. Олеша страдал демонстративно — пил, дерзко острил, сделав и из своей гибели красочное шоу. Зощенко все переживал внутри себя. Олеша уже написал тогда свое лучшее произведение — роман «Зависть», где на примере двух братьев Кавалеровых ясно показал, что художественное творчество — и советская (или всякая?) власть несовместимы и даже враждебны. Роман полон красоты — но она вся в руках у гибнущего, аморального, спивающегося брата Ивана Кавалерова.
Потом Олеша написал еще несколько гениальных рассказов — но ничего, равного «Зависти»… Зато — подтвердил главный тезис своей повести (писателю часто приходится отвечать за свой текст) — власть не любит искусство, а искусство — не любит власть. Потом Олеша на многих застольях, которые он очень любил, повторял: «Они думали, что „Зависть“ — это начало, а „Зависть“ — это конец». Олеша прожил долгую жизнь, был признанным королем веселых компаний и порой, как Иван Кавалеров, даже бравировал своей «продажностью» (писал программы для цирка). Но, как говорится — «талант не пропьешь»: в самом конце его жизни, в «оттепель», появились замечательные его заметки — «Ни дня без строчки», и только после смерти был опубликован горький его дневник.
Неразрешимый конфликт — власть не терпит неугодных — уже ощутили многие. Однако, к счастью (к их счастью), не все были так ярко-талантливы, как Зощенко и Олеша, и «ломать» им свой дар не пришлось — писали, «что надо». Правда — писали, «что надо», и талантливые… например Валентин Катаев. Каждый выживал, как мог — в силу своего дара, и характера, и под воздействием обстоятельств.
Кто же «нормальный» советский писатель? Был ли вообще такой? Рассмотрим, к примеру, судьбу одного из самых «увенчанных»: писателя Павленко. Сначала он показал себя весьма одаренным, написал несколько интересных документальных книг. Во время Великой Отечественной войны, спасаясь после разгрома нашей армии в Крыму, переплывал на бревне Керченский пролив, сильно простудился и заработал сильнейший туберкулез. Поэтому после войны жил в Крыму. Ясно, что жизнь его висела на волоске (даже в смысле здоровья) — зачем рисковать? Это гении всегда «идут до упора», талант диктует, он сильнее их… А «средний» писатель сюжеты ищет с трудом — так почему же не воспользоваться, если подсказывают? тем более — «с самого верху»? Каждый ловит свое «бревно», чтобы доплыть. И так, «спасаясь», Павленко писал романы, и почти каждый из них получал Сталинскую премию! Причем, чем меньше был роман похож на реальную жизнь — тем выше его возносили!
В моей памяти сохранился лишь небольшой фрагмент романа Павленко «Счастье» — самого прославленного и награжденного. И то, должен признаться, фрагмент этот сохранился в моей памяти благодаря фильму. Итак (извините меня за слабость памяти, помню лишь одну картинку, и вы сейчас поймете, почему)… Герой (как зовут его, не помню) ранним утром идет (откуда, не помню) по привольной степи. Помню лишь, что он несет свой пиджак, закинув его за спину, придерживая за вешалку большим пальцем. Так модно было тогда ходить. Встает солнце, все озаряет. И вдруг герой останавливается, потрясенный. А еще бы — нет! В голой степи, озаренный восходом, стоит Сталин в белом кителе! Точней, не стоит, а роет лопатой ямку в земле. И сажает в нее деревце! Тогда как раз актуальной темой для писателей была тема лесозащитных полос. Вождь приветливо подзывает героя, ласково расспрашивает, что и как… Дальше — не помню. Но этого уже и достаточно, я считаю. Вот это и был «средний советский бред»… сейчас бы сказали — «бренд». Если бы Зощенко такое писал — получился бы смех. Поэтому Зощенко опасались.
Длился тот съезд необыкновенно долго (больше такого не было). И несколько последних дней выступающие читали исключительно решения и постановления. Съезд столбовую дорогу определил: «социалистическийреализм». Причем подчеркивалось, что это направление не только допускает, но даже считает необходимым разнообразие стилей и дарований. Какой это «реализм», мы видим на примере Павленко. Почему-то большинство писателей из всего предлагаемого изобилия выбрали именно такой путь.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
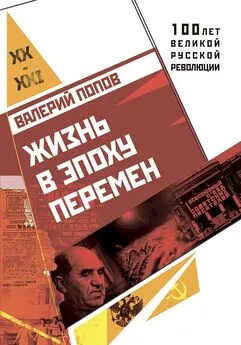
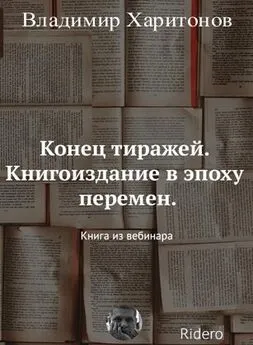
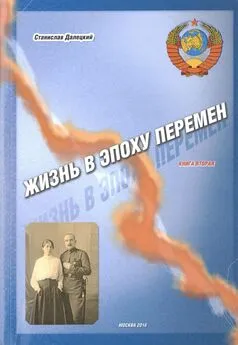
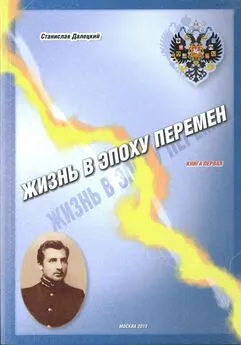

![Валерий Попов - Сон, похожий на жизнь [Повести и рассказы]](/books/1082420/valerij-popov-son-pohozhij-na-zhizn-povesti-i-ras.webp)
![Валерий Попов - Жизнь удалась [Повесть и рассказы]](/books/1082436/valerij-popov-zhizn-udalas-povest-i-rasskazy.webp)