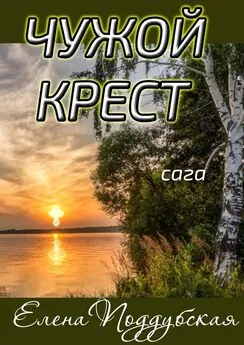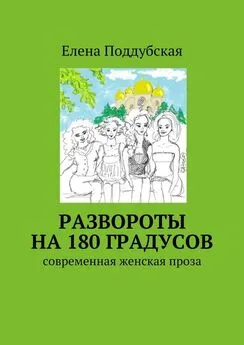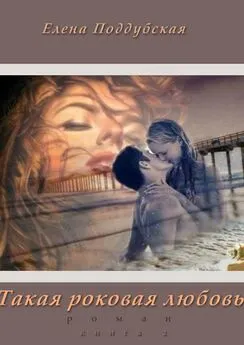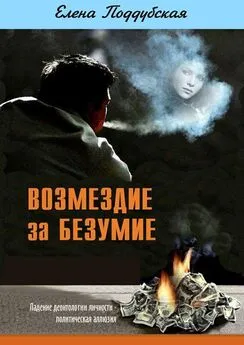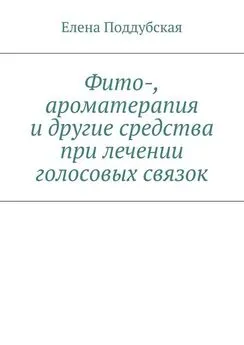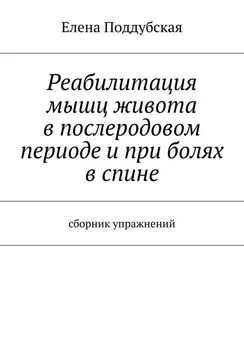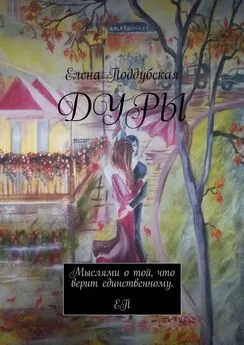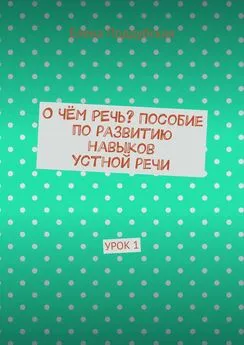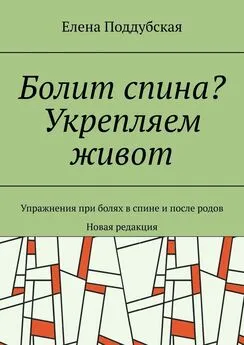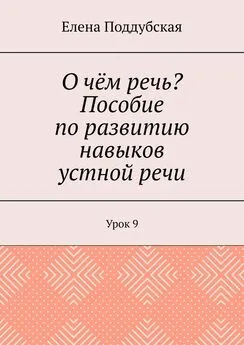Елена Поддубская - Чужой крест. Сага
- Название:Чужой крест. Сага
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005622709
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Поддубская - Чужой крест. Сага краткое содержание
Чужой крест. Сага - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
9. Россия. 1542—1569. Владимир Старицкий
Путь бывшего кузнеца Владимира домой был долог из-за внезапной болезни Ирины. Отвыкнув от холодных зим, в Киеве женщина сильно простыла и слегла. Священник из Печорской лавры, имя которого называл мулла в Константинополе, схоронив у себя на время кресты, поселил путников в своём доме и посоветовал переждать зиму. Однако ждать молодожёнам пришлось больше года; Ирина слишком ослабшая, вряд ли бы выдержала путь. Владимир не торопился вернуться в родной город ещё и потому, что всё это время присматривался к родичам. И чем больше видел, тем меньше принимал. В Константинополе на улицах приветствовали друг друга даже малознакомые люди, и каждый желал при встрече здоровья Аллаху, тебе и твоим ближним, приглашал войти в дом, делился с гостем куском. В Малороссии и на Руси даже соседи были часто молчаливы и неулыбчивы, избы людей открывались для чужих и даже своих лишь в дни родин или похорон, за стол пришлых не усаживали.
Весной 1942 года Владимир и Ирина всё же добрались до Опочки. Почти двадцать лет мужчина не был на родине, но город мало изменился за это время. Дом брата он нашёл всё на той же пристани. За годы Николай стал знатным купцом. Не сразу признал он Владимира: когда-то тот был высоким, теперь стал ещё и могучим. Половину лица его скрывала отныне светлая борода, как и полагалось почтенным мужам, кудри спускались до плеч, широкие кисти рук, как якоря, выпадали из рукавов дорогой накидки.
– Здрав буди, хозяин! – прорычал путник, непривычно складывая рот. До сих пор им с женой привычнее было говорить на турецком.
– Ты ли, брат? – удивился Николай, не торопясь распахнуть объятия. Прошло семь лет с тех пор, как Владимир, некогда кузнец из Опочки, вернулся из Константинополя на родину. Дом, где они жили когда-то с братом, сгорел в городском пожарище, и Николай перебрался в бывшую кузню на берегу реки, ближе к порту, а значит к воде. На этом месте он заново отстроил избу, не большую-не малую, как раз в пору ему и жене. Более пяти лет брака с полячкой, пленённой кем-то из проходящих через Опочку воевод да брошенной из-за немощи, потомством не порадовали.
– Я, – коротко ответил бывший кузнец, удивляясь, что его держат на пороге.
– Значит, здравствуй! Кто это с тобой? – кивнул хозяин за спину брату. Владимир обернулся, вывел на показ жену:
– Ирина. Знакомься.
– Жена или девка?
– Жена. Мне её сосватал сам падишах Сулейман, да будут благословенны его дни! – он обмыл руками лицо.
Николай словно очнулся:
– Так проходите же в избу! Вы, небось, устали?
– Полтора года в пути.
– Почему так долго?
– Ты про то вот так сразу знать желаешь? – впервые показал характер младший брат. Старший засуетился, кликнул супругу.
– Алиция, собери на стол! – шумнул он. Женщина, недовольная нагрянувшими незнакомцами, пробурчала:
– Нэчем потшэват. Только молоко йешт и каша.
Муж оглянулся, вскинул бровь:
– Я что тебе сказал? Брат это мой. Единоутробный. Из Царь-города прибыл. Иди за петухом, пировать будем.
Владимир, ощутив себя неловко, остановил:
– Не нужно, Николай. Хватит нам молока и каши. Баню ещё бы истопить, помыться с дороги перед вечерней зарёй.
Но брат уже доставал хлебосол: не просто так на плечах меньшого висела дорогая кожаная кацавейка, расшитая шелками, а ноги его всунуты в ладные чёрные сапожки. Николай сам бы от таких не отказался. «Вот только не возьмёшь тряпьём плату за постой, так как всё одно не по размеру бобру наряды медвежьи. Поэтому лучше пока не зариться на чужое, принять братца с почестями и благостями. А там посмотрим», – решил он втайне.
Тем же вечером, помывшись и помолившись уходящей заре, Владимир и Ирина напросились жить не в доме, а в бане. Шёл апрель, ночи были не студёные. Да и взгляд свояченицы, как чёрное мыло с абрикосовой пудрой, сдирал кожу. Не по нраву пришёлся Алиции вечерний намаз гостей. «Кто из местных увидит, как падают ненужные родственники на землю и молятся Аллаху, ещё и дом подпалит. Мало ли люду досталось от подлости половецких и ногайских племён. Османцы – ничем их не лучше».
– Зря ты так про них, – остудил брата Владимир за то, что тот назвал его неверным: – Это здесь продадут и правду, и совесть. Восточные люди веру чтят и людей любят.
– Не знаю. По мне так лучше бы тебе крест носить и ходить по выходным в церковь, чем падать ниц за чужого бога.
– Бог для каждого один и в душе. А крест я ношу, – Владимир вынул из-под рубахи нательный знак и ладанку.
– Дивно пахнет. Сам ковал? – кивнул Николай на подвеску с маслом опопанакса. Разглядев, он попросил сделать такую же его жене.
– Сделаю. Только не теперь. Сначала мне нужно выполнить поручение Сулеймана, – ответил Владимир, но уже через время пожалел: взгляд, каким сожрал молдавские кресты его брат, был полон жадного блеска.
За ужином женщины не перемолвились и полусловом. После кваса Николай стал добрее и попросил рассказать про далёкую восточную сторону, богатую и щедрую не только климатом. Он, по причине боязни большой воды, мало где бывал, но слышал от пришлых, что есть чему там поучиться славянским людям. Владимир, не торопясь, повёл беседу про красоты и обычаи османцев. Кроме Константинополя он ездил в Турции в Амасью, родину детей султана, где воспитывали и готовили к службе будущих наследников – шехзаде. Старинный городок широко простирался по скалистым холмам, в нём мирно текла река, отделяя изгибами понтийские деревни – кварталы, где жили представители какой-то одной национальности, дома утопали среди яблоневых и вишнёвых садов. Пение муэдзинов будило люд по утрам и напоминало о времени молитвы не раз в день. Многонациональный говор слышался на базарах. Муллы, имамы и муфтии уважали традиции и атрибуты всякого вероисповедания. Городские судьи кади брали налог только с торговцев, а за равные провинности одинаково судили армян и османцев, персов и грузин, боснийцев и курдов. В русских городах улицы, даже каменные, были грязны, дома перекошены и без дворов, сады сажали лишь в богатых усадьбах, да и то не все, звон колоколов радовал только в праздники, в будни он казался тревожным. Иноземцы на Руси не уживались, так как даже свои меж собой здесь не ладили. В церковь люди ежедневно не ходили. Наперстные кресты разрешалось носить только монахам и знатным. Налог уездным дьякам платили с души, суды решали судьбы не по закону, а по усмотрению. Всю жизнь проживши на реке, опочкинские мужики нищими ходили, как в приречье, куда ни товары, ни рыба не доплывут. Беднота людская прыскала в глаза, как тороченная молью шерсть, вызывая у приезжего недоумение.
– Про тех, кто торгует рыбьим клеем и икрой я могу разуметь, им таможня не спускает. Но пошто, скажи, брат, царь обложил налогом ревень, если он сорняк и плетни подпирает в рост с лебедой? Ладно поташ, он для пороха недругам не нужен, и леса под него жгут, не щадя, но кисель и пироги чем народ не заслужил? – спрашивал Владимир у Николая. Тот, продавая, в том числе и перечисленное, перхал в усы и зевал, широко разиня рот:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: