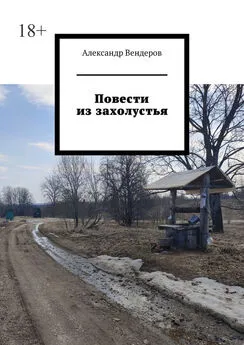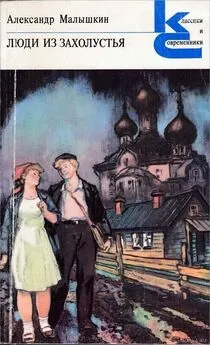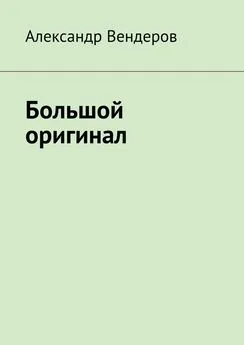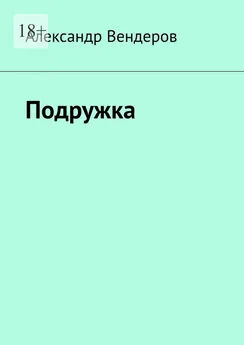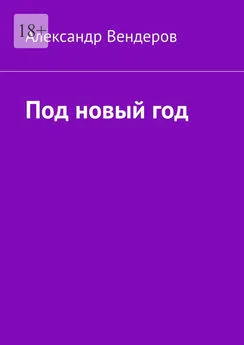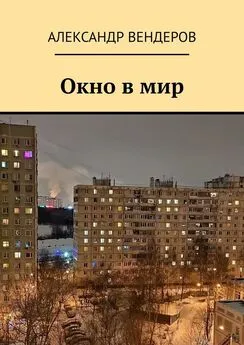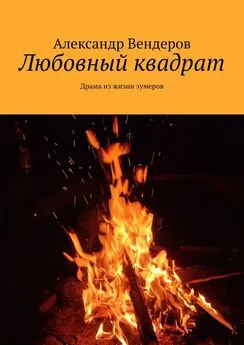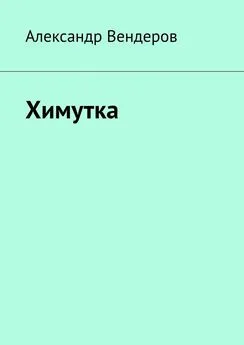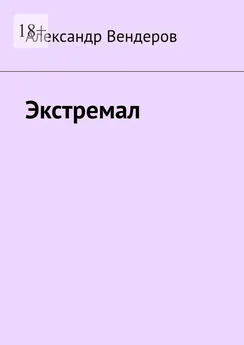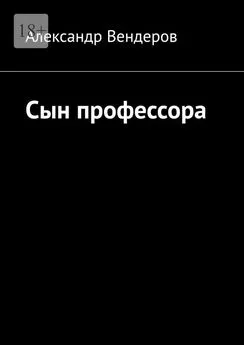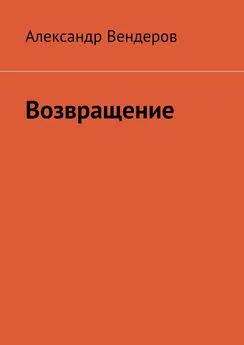Александр Вендеров - Повести из захолустья
- Название:Повести из захолустья
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005375933
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Вендеров - Повести из захолустья краткое содержание
Повести из захолустья - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Витя, это место раньше называлось Прогоном. Коров здесь на пастбище гнали из деревни. И тут до войны случилась такая история. Мне бабушка говорила, а ей кто-то ещё рассказал. Где-то здесь, совсем рядом, жил кузнец. Жил бедно, а любил показать, что не нуждается и живёт хорошо. И как-то раз зовут его мужики на сход работников колхоза «Свобода», как раз на этом месте и собирались. И он перед выходом помазал усы куском сала. Подходит к товарищам и говорит: «Ох ты, чёрт побери, сальца поел. Вкусно»!
Ну стоят, обсуждают рабочие вопросы. А его сын выходит из дома и кричит: «Тятя! Кот сало съел, что ты усы мазал»!
– Колхоз «Свобода»?
– Да. Название было, а свободы не было.
– Жёсткие времена были! А как у нас в Сулидах колхоз назывался?
– А у нас был колхоз имени Сталина. Это уж потом, в шестидесятые, окрестные колхозы в один совхоз объединили.
– Смотри, Алеся, тогда тут народу хватало на целый колхоз! Твои родственники когда отсюда уехали?
– В семьдесят седьмом бабушка дом в Сулидах купила. Дедушка Ваня к этому времени умер уже. Мы сейчас идём к тому месту, где их хата стояла.
Алеся всю дорогу от Сулид фотографировала на телефон. Сначала ручей с бобровой запрудой, потом посадку деда Матвея, плотину, а сейчас и Рамешки. Витя спросил:
– Что с фотками делать будешь?
– Закину их в облако, чтобы маме показать. Ссылку отправлю. Её родная деревня ведь.
– Да ты и Сулиды, я смотрю, сфотографировала с разных сторон.
– Конечно! Это уже моя родная деревня.
– А как в августе оформишь наследство, ты дом будешь продавать или сама жить?
– Продам. Егор уже дал понять, что купить хочет. А я не чувствую себя здесь дома, хотя воспоминаний, казалось бы, угасших много пришло, когда на землю предков вернулась.
– Правда дома себя тут не чувствуешь? Выросла здесь всё-таки.
– Выросла – это да, но мой дом давно уже в Петербурге, и я сейчас скучаю по этому городу. Как ограничения снимут, поеду домой. Карантин – возможность перезагрузиться, и я рада, что вышло именно так. А ты хочешь остаться на ПМЖ в деревне?
– Вряд ли. Это сейчас у меня жилья в городе нет – вот и езжу туда-сюда. А как будет возможность, уеду. Хотя меня тянет в деревню, как и тебя в город, если долго не был.
Они прошли почти всю деревню и подошли к трём липам, высаженным в ряд. Надо же, и здесь липы… Не задумывалась, не обращала раньше внимание, что это такое распространённое в Рамешках дерево. На этом месте когда-то стоял дом бабушки и мамы, но сама Алеся в Рамешках никогда не жила. Бывала в школьные годы часто, но бывать – совсем не то же, что жить постоянно. Отсюда до северного края деревни рукой подать. А там, за околицей, гора Жуковка. С неё в мамином детстве, в шестидесятые годы, дети на лыжах и санках катались.
– Витя, а где же люди? – спросила Алеся, когда дошли до крайнего дома, откуда открывалась панорама Жуковки и брошенных совхозных полей, зарастающих лесом. – Пока мы прошли по Рамешкам из конца в конец, я заметила машин десять, если не больше. Дачники здесь самоизоляцию пережидают, но по улицам не ходят.
– А все, наверное, в телефонах сидят – и родители, и дети. Пойдём на Заречину – может, там кого увидим.
На Заречине действительно встретили живую душу. Точнее, целых четыре живые души: пожилую женщину лет семидесяти, даму средних лет, постарше Алеси, а ещё юношу и девочку-подростка. Оказалось, что это татарская семья из Москвы. Приехали в деревню, как и Алеся, в конце марта, с тех пор так здесь и живут. Познакомились, разговорились. Пожилая женщина представилась как Зоя Константиновна. А рядом с ней её невестка Ирина и внуки Тимур и Алина.
Алеся подумала, что вряд ли собеседницы на самом деле Зоя Константиновна и Ирина: люди из мусульманских народов, живущие в русском окружении, часто называют себя русскими именами. Вероятно, потому, что их истинные имена русские забывают или коверкают. Но как они представились, так и нужно называть. Это уважение к человеку.
– Живём здесь, как на необитаемом острове уже месяц. Дом на отшибе стоит, – сказала Ирина. – А вы тут давно?
– Я местный, – ответил Витя, – а Алеся тоже в марте из Питера приехала.
– А мы вот москвичи. Далеко, конечно, забрались. Зато тихо и спокойно.
– У вас в Москве вообще что-то невероятное с этой эпидемией творится, – заметила Алеся.
– Там без пропуска на улицу не выйдешь, а я спать не могу, если не погуляю, – ответила Зоя Константиновна. – Да и заразиться боюсь этим вирусом. В моём возрасте опасно.
– Скажите, может, вы знаете: мне вот бабая 3 3 Бабай – дедушка (татар.)
надо отвезти в поликлинику, на сердце жалуется. А можно пожилым людям куда-нибудь выезжать? – задал вопрос Тимур.
– В поликлинику, конечно, можно, – сказал Витя. – Я сам в Росгвардии служу, знаю точно. Поезжайте в райцентр.
– У вас и бабай здесь? – поинтересовалась Алеся. И тут же добавила: «Раз сердце, то ехать, конечно, надо к врачу, и чем скорее, тем лучше».
– Мы всей семьёй. Но скучно! А дедушка отдыхает сейчас, – вставила свои пять копеек Алина.
Беседа переместилась за стол. Конечно, сыграло роль и традиционное татарское гостеприимство, но до чего же бывают рады хорошие, добрые люди встретить себе подобных после месяца отшельничества! Хозяева, как оказалось, родились уже в Москве, даже Зоя Константиновна. Её родители родом из Нижегородской области, переехали в столицу после войны. Алеся спросила:
– Зоя Константиновна, а вы в семье по-татарски говорите?
– Нет. Я почти не помню языка, а когда-то неплохо знала. Дети мои – те и не знали никогда. Но мы помним о своих корнях, и мы мусульмане.
Возвращались домой уже под вечер. По пути зашли на родник у дома бабы Наташи Шурыгиной, которая некогда в магазине работала. Дом стоял закрытый: хозяйка давно умерла, а дети, видать, приезжали сюда нечасто. Над родником возвышался деревянный сруб, отчего этот источник внешне не был отличим от обычного колодца. Вода оказалась затхлой, с сильным запахом тины: родником давно никто не пользовался.
– Ну вот и попили… Жаль, конечно. А ты знаешь, Витя, эти Шурыгины всё время запрещали посторонним пользоваться источником. А того не могли взять в толк, что чем чаще пользуешься колодцем, тем вода в нём лучше!
– А почему запрещали? Может, боялись, что кто-нибудь в воду нагадит? Ну, в том смысле, что испортит воду тем или иным способом.
– Кто их знает! Чужая душа – это кромешные потёмки. А родник почистить бы – снова хорошая вода будет.
– Да кто этим будет заниматься, Алеся? Тут у всех свои колодцы на участках.
В Сулиды шли уже не через лес, а по асфальтированной дороге. По левую сторону виднелась ферма Андрея-гусятника, а по правую – поле, зарастающее мелколесьем. Оно и понятно: Смоленщина находится в природной зоне смешанных лесов, а природа, если её не тревожить, всегда восстанавливается и возвращает утраченные позиции, разрушая созданное человеком.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: