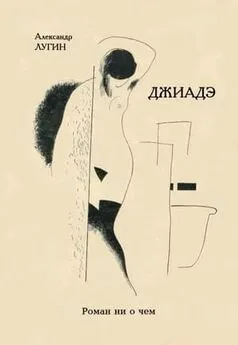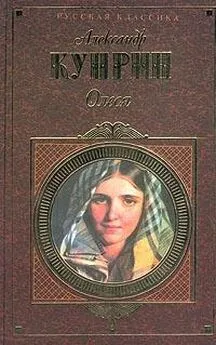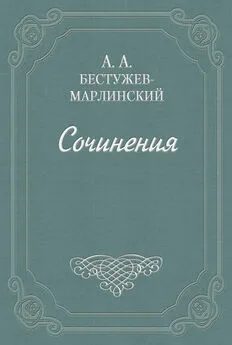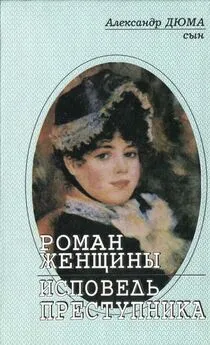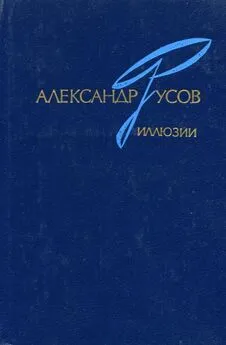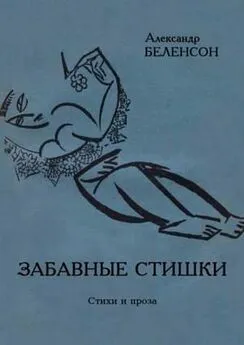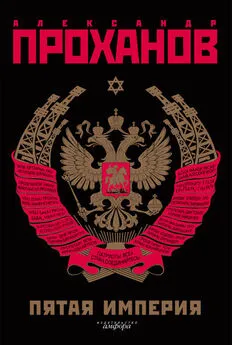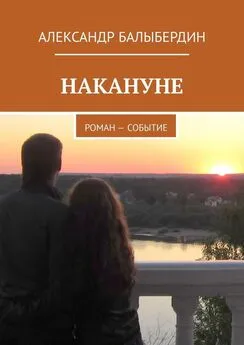Александр Беленсон - Джиадэ. Роман ни о чем
- Название:Джиадэ. Роман ни о чем
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Salamandra P.V.V.
- Год:2015
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Беленсон - Джиадэ. Роман ни о чем краткое содержание
В приложения к книге включен примыкающий к «Джиадэ» прозаический фрагмент «Египетская предсказательница» и статья литературоведа И. Е. Лощилова о прозе А. Беленсона. Издание снабжено подробными комментариями.
Джиадэ. Роман ни о чем - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Таким образом, мимоходом разрешается и наболевший вопрос о квадратуре круга. Автор, впрочем, с самых детских лет равнодушен к успеху у широкой публики. Все официозы единодушны в утверждении, что вот-де она наконец, настоящая советская сатира: под настоящей они разумеют «от чистого сердца».
В отдельных критических экскурсах отмечается, как тонко выведена идея о преимуществах советских дипломатов перед дипломатией йоркширской буржуазной, когда, согласно стенограмме, на вечере смычки съезда ветеринарных работников громогласно оглашено было замечание Троцкого, «что наш советский поросенок является очень хорошим дипломатом на мировом рынке».
Так же тонко разобрана идея, бичующая клевету о вредности наших северных монастырей в смысле заточенья и ссылки. Ссылка на обстоятельный критический разбор под заглавием «Новые Соловки» особенно убедительна, ибо характеристике нэпмановско-спекулянтских кругов, которым предстояло познакомиться с «необитаемым островом», что «Соловки» – «смертельное место» для содержащихся там заключенных, автор блестяще противопоставил точные даты, зафиксированные на крестах соловецкого кладбища, например, вроде сосланного гетмана Запорожья Пафнутия, который жития имел 124 года и после этого, даже будучи помилован царским строем, не пожелал расстаться хотя бы на час с дорогим местом своей ссылки. Последнее могут подтвердить оставшиеся на Соловках другие иеромонахи, занимающиеся теперь дозволенным рыбным промыслом, из которых ни один не умер ранее пятидесяти двух лет отроду. Как же после этого омерзительна клевета, что «Соловки – остров на Белом море, климат которого необыкновенно вреден для здоровья».
Но наиболее досконально изучена научной критикой, базирующейся в своих литературных изысканиях на незыблемых основаниях исторического енчменизма, сложнейшая третья идея, проходящая действительно и без экивоков красной нитью, – о необходимости беспощадной борьбы с сапом, каковая встречает дружное сочувствие и на состоявшемся всесоюзном съезде ветработников, где выступавшие в прениях представители с мест взволнованно подчеркивали необходимость спешного создания общественного мнения вокруг вопроса о подсудности ветеринарных работников, а также доказывали, что «общий уровень, нанесенный животноводству эпизоотиями, исчисляется во множестве голов крупного и мельчайшего скота».
Вначале, как было, помнится, и при появлении «Мертвых душ», «Испытание ничем» встречено советской общественностью отчасти неодобрительно. Испугались всей той выведенной автором на божий свет пошлости, того ничтожества русского человека, который низводит себя злоупотреблениями в области алкоголизма до положения упомянутых рогатых скотов.
Предостерегающие крики автора о роже, о рожистом воспалении, склонны были вначале принимать за обыкновенный пасквиль.
Скоро, однако, трезвое благоразумие решительно взяло верх, и поразительные результаты налицо: уже «намечается полтора миллиона предохранительных и столько-то лечебных прививок против рожи свиней» («Известия», № 40). После того как-то неловко вспоминать былые суждения о литературе, что она не более как «сладкие вымыслы» или того хуже – «сплошь празднословие».
Высказавшись о дипломатах, Троцкий добавил, что поросенок должен быть прежде всего здоров, санитарно благополучен, и поэтому ясно, что рожу и сап, эти поросячьи эпизоотии всякой тайной дипломатии, мы с негодованием должны отвергнуть, удовлетворив ветеринаров в смысле подсудности, о чем хлопочут представители с мест, и вообще повернувшись лицом к ветеринару, о лице которого кто-то метко выразился на съезде: «Где не может быть ветеринар сам, нужно, чтобы там были его очи».
Здесь и обнаружился искомый водораздел российской истории, или, другими словами: от ока государева к оку ветеринарову. И не будет на советской земле рожи…
А этот превосходнейший старинный стул красного дерева жакоб, в реставрированных ножках которого злопыхающие головы тщетно искали несуществующую контрреволюцию! Как будто революция отменила красоту! «Нет, – сказал Калинин на всероссийском съезде деревообделочников, – красота не уменьшается. Разве деревянное окно теперь должно быть менее красиво, чем оно было сто лет тому назад? Это неверно». То есть без красоты – стоп строительство, так сказать, ни тпру, ни ЦСУ. Для чего же тогда злопыхательство по поводу красного стула жакоб, являющегося лишь одним из славных предвидений автора, пророчествующего, как всякий великий сатирик, не удовольствия ради, а в силу необходимости, ex cathedra или ex officio, что значит: официально.
Говорят: «нет пророков в своем отечестве, – запрещено». Но здесь уж мы всецело обратимся к мудрости главного управления всесоюзными литераторами. С одной стороны, где же и пророчествовать, как не в своем отечестве, когда за границами все люди светские, а в светском обществе появление пророка даже в неприсутственный день так же неприлично, так же скандально-немыслимо, как фокстротирование чистого духа, наспех материализовавшегося для потехи великосветских спиритов.
Теперь, когда наука опытным путем доказала возможность передачи собственных самых сумасбродных мыслей на любом расстоянии при содействии простых электромагнитных волн, обильно содержащихся внутри каждой черепной коробки, и без мистики, теперь желающий легко может распространять свои дурные мысли, минуя Гизы. А если у писателя мысли хорошие «от чистого сердца», что толку тогда мешать ему и ставить палку в колеса его безвредной для гражданского общества агитации.
Вспомним примеры из древнейшей римской истории. Некто Герострат, помочивши Рим бензином, поджег этот живописнейший столичный город, возвеличившийся, по Моммсену, оттого, «что поблизости текла река Тибр», и тогда-то капитолийские свиньи самоотверженно затушили пламя. Дурным поступком, порожденным дурной предвзятой мыслью, Герострат добился лишь сомнительной славы, но не социального обеспечения для своего потомства, – о свинье же спасителе и по прошествии веков с удивлением произнесут: «Каков гусь!» Опять-таки только гусь, выросший в атмосфере общественного доверия, где нет места роже, и вполне санитарно-здоровый, способен жертвовать собственными гусиными лапками, вставши грудью и не щадя живота, ради отечества, под руководством зоркого ока ветеринарного работника.
В заключение отвечу на многочисленные запросы читателей с мест о том, почему «Испытание ничем» названо как-то-биографическим. Дело в том, что автор никогда ничего не вымышлял фантазией: он только в реальной жизни и в ней одной черпал свои наблюдения, простые, как эти электромагнитные волны, как знаки зодиака, как некая вывеска-анонс: «Парт-Ной для дам военных и гражданских». Черпнув, сразу же записывал без посторонней или потусторонней мистики, при содействии лишь личного таланта.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: