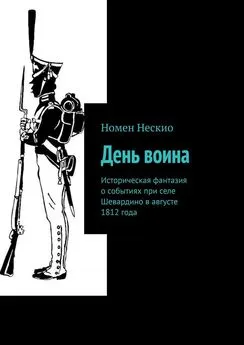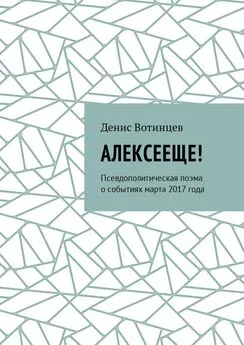Сергей Чупринин - Оттепель. События. Март 1953–август 1968 года
- Название:Оттепель. События. Март 1953–август 1968 года
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:9785444813652
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Чупринин - Оттепель. События. Март 1953–август 1968 года краткое содержание
Оттепель. События. Март 1953–август 1968 года - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
298
В справке «От издательства» сообщалось: «Настоящая книга написана в 1948 году и представляет собой вторую часть работы покойного историка русской литературы Г. А. Гуковского „Очерки по истории русского реализма“. Автором было задумано большое исследование о становлении реализма как литературного стиля на материале творчества великих русских писателей XIX–XX веков, но он успел написать лишь книги, посвященные Пушкину и Гоголю» (с. 3). Г. А. Гуковский был арестован в июле 1949 года; умер в следственной тюрьме Лефортово 2 апреля 1950 года. В 1959 году была издана неоконченная из‐за ареста книга «Реализм Гоголя», в 1965 году переиздана первая часть «Очерков…» – «Пушкин и русские романтики» (первое издание – Саратов, 1946).
299
Из письма Корнея Чуковского, отправленного Николаю Заболоцкому 5 июня: «Пишу Вам с той почтительной робостью, с какой писал бы Тютчеву или Державину. Для меня нет никакого сомнения, что автор „Журавлей“, „Лебедя“, „Уступи мне, скворец, уголок“, „Неудачника“, „Актрисы“, „Человеческих лиц“, „Утра“, „Лесного озера“, „Слепого“, „В кино“, „Ходоков“, „Некрасивой девочки“, „Я не ищу гармонии в природе“ – подлинно великий поэт, творчеством которого рано или поздно советской культуре (может быть даже против воли) придется гордиться, как одним из высочайших своих достижений» ( К. Чуковский . Т. 15. С. 439).
300
Это издание вызвало протест Ариадны Цветаевой, опасающейся, что оно помешает публикациям Марины Цветаевой в СССР, и в письме Илье Эренбургу от 3 июля 1958 года задающейся вопросом: «На каком основании базельский университет нарушил принципиальную волю Цветаевой, никогда не хотевшей обнародовать „Лебединый стан?“» («Я слышу всё…». С. 366).
301
Юлий Райзман получил почетный диплом на Международном кинофестивале в Венеции (1958).
302
Единственный советский фильм, удостоенный Золотой пальмовой ветви на Международном кинофестивале в Каннах.
303
По делу 1938 года.
304
По делу 1937 года.
305
В этом же году восстановлен посмертно в Союзе писателей.
306
В этом же году восстановлен посмертно в Союзе писателей.
307
В августе 2000 года Русской Православной Церковью причислен к лику новомучеников и исповедников.
308
«Так первоначально назывались „Дети Арбата“» ( А. Рыбаков . Роман-воспоминание. С. 233).
309
Эта повесть была опубликована в сильно изуродованном редакторами и цензорами виде. «И самое мерзкое, – вспоминает Г. Бакланов, – что в последний момент без моего ведома, тайно было снято посвящение моим погибшим в войну братьям, родному и двоюродному: Юрию Фридману и Юрию Зелкинду. Оба добровольцами пошли на фронт, оба пали смертью храбрых, артиллерист и пехотинец, но внедрялось убеждение, что евреи не воевали, евреи, мол, спасались от войны в Ташкенте» ( Г. Бакланов . С. 122).
310
Имеется в виду заведующий Протокольным отделом МИД СССР Ф. Ф. Молочков.
311
Этому предложению, надо полагать, предшествовала встреча Константина Симонова с Н. С. Хрущевым, во время которой Симонов сказал о своем намерении уйти из «Нового мира» и уехать в Ташкент, а «<���…> Хрущев, словно бы он именно этого и ожидал, ободряюще кивнул. Тут же спросил, кого К. М. предлагает на свое место, и, услышав, что Твардовского, снова согласно кивнул, как показалось Симонову, с облегчением. <���…>
Визит Симонова к Хрущеву не остался в секрете.
Вскоре на дачу в Красную Пахру заглянул, вроде бы ненароком, Твардовский и поведал, что ему официально предложили журнал» (Б. Панкин. С. 201).
312
Вторая серия этого фильма была закончена в 1945 году, но не выпущена на экран.
313
М. А. Шолохов был избран действительным членом АН СССР еще в 1939 году.
314
«Едва урвал время, – 3 августа записывает в дневник Александр Твардовский, – ознакомиться с „боевиком“ – сплетней и ябедой в лицах – „Ершовыми“ Кочетова (к слову – потрясен этой штукой, вернее, возможностью такого „явления“ в лит<���ерату>ре. – Если это литература, то мне там делать нечего, как и всем добрым людям)» ( А. Твардовский . Дневник. С. 365).
И еще, из письма Василия Гроссмана Семену Липкину от 2 октября:
«Прочел роман Кочетова „Братья Ершовы“. Подлое, ничтожное произведение, построенное по схеме столь привлекательной, что она может возникнуть в голове петуха, судака, лягушки. <���…> Одно утешение – бездарно. Знаешь, ведь, особенно больно, когда имеешь дело с Гамсуном, – тогда возникает сложность. А здесь этой сложности нет, – все просто и ясно. Как в пословице о пчелах и меде» ( В. Гроссман . Письма Семену Липкину. С. 141).
В негативном отношении к этому роману сошлись многие литераторы. Вот выдержка из справки, которую в ЦК КПСС направил начальник одного из отделов 4‐го управления КГБ Ф. Д. Бобков:
«Драматург А. Штейн рассказал мне, что и в Коктебеле, откуда он недавно приехал, и в Переделкине, где он отдыхает на даче, все почти без исключения писатели резко отрицательно относятся к роману: „Гуляют по Переделкину Федин с Леоновым, Вс. Иванов с К. Чуковским, Ираклий Андроников с Катаевым и издеваются над Кочетовым, рассказывают друг другу самые вопиющие эпизоды, приводят цитаты, а выступать никто из них не хочет, все боятся неприятностей, берегут нервы“» (Аппарат ЦК КПСС и культура. 1958–1964. С. 116–117).
315
«Народу, – свидетельствует Даниил Гранин, – собралось великое множество, вокруг Дома писателей стояла толпа, и было много милиции, внутри Дома сновали молодые решительные незнакомцы, они требовали прекратить доступ людей к гробу, пропускать только членов Союза писателей, обстановка становилась все более нервозной, несколько женщин рыдали в голос, внизу, у входа в Дом, шумели не попавшие» ( Д. Гранин . Всё было не совсем так. С. 341).
316
«<���…> после Михаила Леонидовича Слонимского, – процитируем еще раз Даниила Гранина, – к центру прорвался писатель Леонид Борисов. Надрывный, высокий голос его нарушил благочинность процедуры: „Миша, дорогой, – кричал он, – прости нас, дураков, мы тебя не защитили, отдали тебя убийцам, виноваты мы, виноваты! Виноваты мы перед тобой, не защитили тебя, смирились“. <���…> Наступило потрясенное молчание. Оно продолжалось длинную-длинную секунду, и, конечно, если бы не похороны, Борисову бы аплодировали. Александр Прокофьев вышел вперед, он весь раздулся багровой налитой тяжелой кровью. „Я протестую, – прохрипел он. – Это недопустимо, устраивать тут митинг“. Его было жаль, он вынужден был как-то загладить сказанное, дать отпор, оберечь Союз писателей от попреков и не знал, как это сделать потактичнее» ( Д. Гранин . Всё было не совсем так. С. 343).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: