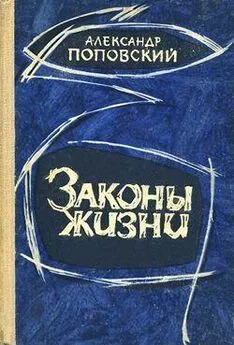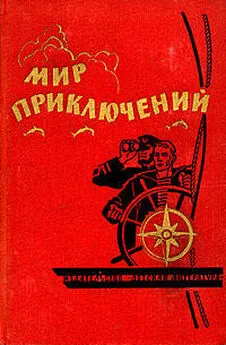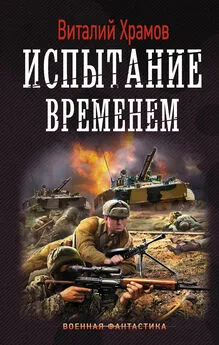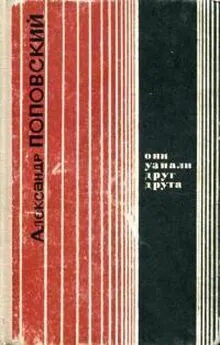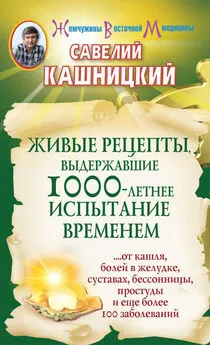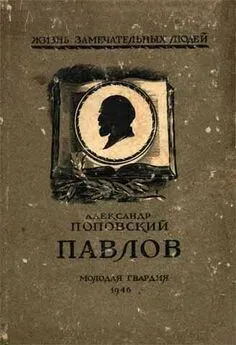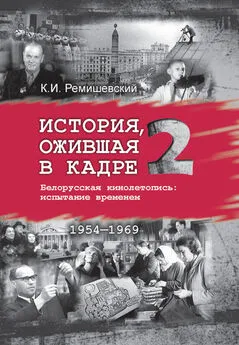Александр Поповский - Испытание временем
- Название:Испытание временем
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1969
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Поповский - Испытание временем краткое содержание
Действие романа «Мечтатель» происходит в далекие, дореволюционные годы. В нем повествуется о жизни еврейского мальчика Шимшона. Отец едва способен прокормить семью. Шимшон проходит горькую школу жизни. Поначалу он заражен сословными и религиозными предрассудками, уверен, что богатство и бедность, радости и горе ниспосланы богом. Однако наступает день, когда измученный юноша бросает горькие упреки богу и богатым сородичам.
Действие второй части книги происходит в годы гражданской войны. Писатель откровенно рассказывает о пережитых им ошибках, о нелегком пути, пройденном в поисках правды.
А. Поповский многие годы работает в жанре научно-художественной литературы. Им написаны романы и повести о людях науки. В третьей части книги он рассказывает о том, как создавались эти произведения, вспоминает свои встречи с выдающимися советскими учеными.
Испытание временем - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Исакееву не привелось эту повесть прочитать. Не увидела повесть и света ни в русской столице, ни в киргизской ее не поддержали. Она была опубликована двадцать семь лет спустя в Москве…
Моему следующему роману «Мечтатель» предшествовали долгие философские размышления о нравственном мире человека, и всего больше — о природе совести и чести. Как и чувство дружбы, эти моральные категории заинтересовали меня не случайно. Я твердо уверовал, что «общественное бытие определяет сознание», нравственные представления носят печать классового характера и различны у эксплуатируемых и эксплуататоров. У природы этой двойственности нет, слишком односторонни, суровы и убоги ее нормы. Во всем примат силы и ловкости, ни милосердия к слабому, ни верности велению совести. Не позаботилась природа, чтобы моральные основы, подобно инстинктам, стали наследственными.
Мы являемся на свет свободными от нравственных обязательств, хоть и склонны полагать, что совесть — голос наших сокровенных чувств и убеждений. Даже вынужденные под влиянием среды изменить своим правилам, мы не сомневаемся, что остаемся верными себе.
Мало кто еще верит, что наши нравственные представления безначальны и вечны. Слишком часто они обращались в свою противоположность. Никто свою честь не защищает больше с оружием в руках, дуэли забыты, уязвленная обидой девушка не ищет утешения в стенах монастыря, цивилизованные люди не связывают честь женщины с ее целомудрием, — а как дорого эти предрассудки стоили человечеству.
Верные своим понятиям морали и чести, мы не задумываемся над тем, кто их в нас заронил, почему, рожденные одной эпохой, они умирают, чтобы воскреснуть и утвердиться в другой? Наш ли это внутренний голос, отголосок ли извне затмил наше сознание?
И совесть, и честь, и прочие плоды цивилизации благоприобретенны. В них отчетливо прослушиваются голоса матери, бабушки, учителя, наставниц и наставников. Как достались им эти нравственные нормы?
Трофеи были добыты в трудной борьбе задолго до того, как они стали истиной для матери, бабушки и прочих наставников.
Мне показалось интересным проследить за временем и средой, где разуму и чувствам человека внушаются моральные основы, разглядеть их наслоения в движении и противоречиях. Задача была бы по плечу Достоевскому, моего искусства хватило бы лишь на то, чтобы записать чужое признание или стать доверенным того, чья жизнь прошла где-то подле меня. Но где он, этот близкий и вместе с тем далекий подопытный объект? Да и много ли узнаешь от него? Так ли уж часто приходится заглядывать в лабиринты чужих мыслей и чувств? Способны ли мы беспристрастно судить о них? Да и хорошо ли копаться ради собственного удовольствия в чужой душе?
Единственно, кого я в жизни разглядел, чьи правила поведения мне известны, — был я. В лабиринт моих собственных дум никто так глубоко не проникал, но не ставить же опыт на самом себе? И кому интересна повесть о днях моего детства и юности? Так ли замечательны они? Пусть с ними связаны радости, которые больше не повторялись, но стоит ли к ним возвращаться? Были и горести, слишком тягостные для слабых плеч юноши, надо ли ими омрачать сердца неискушенных читателей?
Сомнения длились долго, и, как всегда, когда желания велики, нашлись веские доводы в их пользу. Ведь не ради восхваления собственных заслуг и славы будет проведен эксперимент. Чем вымышленная история лучше подлинной, достоверность которой бесспорна?
В 1940 году мой литературный самоанализ под названием «Мечтатель» вышел в свет. Он обнимал период от начала начал моих нравственных представлений, заимствованных дома и в школе, до вмешательства внешней среды и первого бунта на стороне сил, враждебных поучениям матери, бабушки и наставников. Вторая часть книги, где события и время привели меня в лагерь революции, лишь спустя четверть века нашла своего издателя.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Когда редактор журнала «Наши достижения» Бобрышев предложил мне написать очерк о Всесоюзном институте экспериментальной медицины, он несказанно этим обрадовал меня. Прежде чем я успел согласиться, он поспешил указать, что командировка в Ленинград будет оплачена, а очерк без промедления напечатан.
— На этом материале настаивает Горький, — добавил редактор, — это его инициатива… Я назвал ему вашу фамилию, и он тепло одобрил ее.
Я был еще сравнительно молод, искал встреч со значительными людьми, верил, что общение с ними обогатит мой ум, раскроет неведомые тайны. Наконец, новые знакомства послужат, возможно, запалом для будущего романа.
Дотошный редактор не спросил меня, знаком ли я с той наукой, о которой собираюсь писать. Этим заинтересовались другие, и далеко не из добрых побуждений. Принимая из моих рук командировочное удостоверение, секретарь института, как бы между делом, спросил:
— Вы, надеюсь, врач или научный сотрудник?
Я поспешил разуверить его:
— У меня нет медицинского образования. Думаю обзавестись.
Мой легкомысленный ответ вверг его в недоумение.
— На это понадобится пять лет.
Я повел себя неосторожно, сославшись на Леонардо да Винчи и Пастера, которые счастливо обошлись без медицинского диплома.
Профессор, к которому судьба меня привела, был более категоричен.
— Вы не вправе писать о науке, с которой незнакомы. К добру такая работа не приводит. И зачем это вам? Пусть присылают специалиста, подпишется под статьей кандидат или доктор, и никто пикнуть не посмеет.
Он был уверен, что ученость включает в себя и художественное мастерство.
Некоторые ассистенты, чтобы поставить меня в невыгодное положение, пользовались в своих объяснениях греческой и латинской лексикой. Наиболее честолюбивые излагали успехи лаборатории как свои, не упоминая помощников. Им в голову не приходило, что я обращусь к специальным журналам и тщательно проверю их заявления.
Институт принял меня холодно, тем приятней было в день отъезда из Ленинграда получить от будущего академика Алексея Дмитриевича Сперанского сборник его трудов с трогательной надписью:
«Александру Даниловичу Поповскому, удачно разрешившему задачу литературного охвата идей и трудов ВИЭМа, от редактора. 5/2-34 года».
Двадцать пять лет спустя, когда моему перу принадлежало уже много книг о различных ученых, почтенные профессора все еще не упускали случая посетовать на то, что у меня нет систематического медицинского образования.
Очерк о Всесоюзном институте экспериментальной медицины был напечатан и послужил новым поворотом в моей литературной судьбе.
Трудно сказать, что больше тогда вскружило мне голову, удачный ли дебют в журнале или приятное сознание, что ученые недооценили моих способностей. Я решил писать биографии замечательных физиологов моего времени. Это тем более льстило моему самолюбию, что никто из писателей до меня, и кстати сказать — после, об этом разделе биологии не писал. Научно-популярная литература ограничивалась трудами микробиологов, хирургов и агробиологов. Оно и понятно, — легче описывать манипуляции с разводкой микробов, поведать о чуде на операционном столе или рассказать о растениях, покорных воле экспериментатора, чем занимать читателя повестью о выделениях желчного пузыря и состоянии собаки с перерезанным блуждающим нервом. Были тридцатые годы — время расцвета физиологической науки в стране, и автору недавних производственных романов нельзя было уклониться от своего долга — не поведать об этих успехах читателю.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: