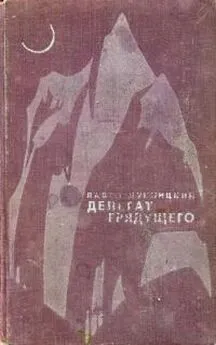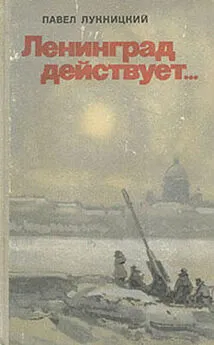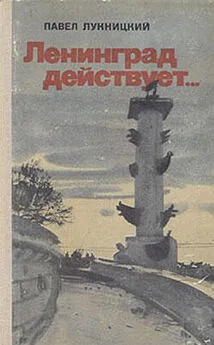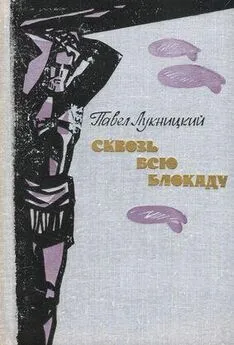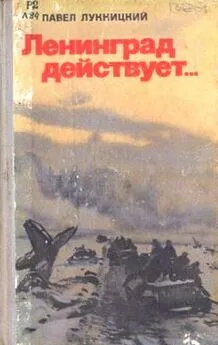Павел Лукницкий - Делегат грядущего
- Название:Делегат грядущего
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1970
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Лукницкий - Делегат грядущего краткое содержание
Выпуском этой книги издательство отмечает семидесятилетие со дня рождения и пятидесятилетие творческой деятельности Павла Николаевича Лукницкого — свидетеля Октябрьской революции в Петрограде, участника гражданской войны, борьбы с басмачеством в Средней Азии, защитника Ленинграда в течение всей немецко-фашистской блокады, прошедшего затем с армией-освободительницей славный путь победы до Белграда, Будапешта, Вены и Праги.
В числе многих литературных произведений, созданных П. Н. Лукницким, широко известны его романы «Земля молодости» и «Ниссо», трилогия «Ленинград действует», сборники повестей и рассказов «Всадники и пешеходы», «За синим камнем», «На берегах Невы», книги «Путешествия по Памиру», «Таджикистан» и др.
Делегат грядущего - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Удивительно рассказывал Дымский теплыми и темными ночами в Хороге. Днем он казался вялым и скучным. Он писал протоколы в заседаниях облисполкома, ему давали слово, и он путался в синтаксических оборотах, пытаясь вложить в них точные выводы цифр, им самим добытых по волости. Он лениво и медленно ходил по Хорогу в ночных туфлях, но когда случайно доходил до крутореброго высокого камня на берегу кипящего в пене и ярости Гунта, то сбрасывал туфли, мешковатый госторговский пиджак и мятые брюки, сбрасывал, выпрямлялся на камне и тугой напряженной стрелой летел вниз головою в ледяную гудящую воду. Находились в Хороге такие, как он, не боящиеся мутной и опасной воды, но их было мало.
Дымский редко спорил с людьми и никогда не сердился. Никто никогда не видал его раздраженным. Он был мечтателен и застенчив. Любил песни шугнанцев, записывал их и переводил. У него была тетрадь с записями народных обычаев. И однажды на столе в его комнате я нашел плотную, сшитую пачку писчей бумаги, на которой прочел надпись: «Роды, родовая вражда и родоначальники на Восточном Памире». Это была рукопись его труда, о котором я не знал до тех пор. Я попросил у него разрешения прочесть, и он, стесняясь, нехотя разрешил.
Подробнейшие сведения с цифровыми выкладками вскрывали всю экономику Восточного Памира, которой никто до сих пор серьезно не занимался. В рукописи были фразы: «под теснением отряда крармии», «в Аличуре земледелие было ранее основным занятием некоторых киргизов, но с течением времени оно забросилось», «такое неравномерное распределение скотины сказывается на благосостоянии района, где байство излишками скота, давая его на выпаску бедноте, каковая собирает с него молоко и шерсть, располагает последних на свою сторону и тем самым препятствует проведению классового расслоения…»
В ней было много таких фраз, которые были насыщены мучительной борьбой автора с ощерившимся на него синтаксисом, но это была драгоценная рукопись, которую я прочитал с давно не испытанной жадностью и которую в конце концов выпросил, чтоб увезти в Ленинград и, выправив ее, сдать академическому издательству.
И она была бы напечатана, если бы Дымский, вдруг, словно испугавшись чего-то, не прислал мне радиограмму о том, что он не хочет ее печатать, потому что будет все заново переделывать.
Я всегда видел Дымского таким тихим, даже вялым и немного скучающим, что я никак не мог — и это даже злило меня — представить его иным: тем человеком, который в рассказах о нем обрастает героической легендой.
В те годы многое в кишлаках еще было недоступно рядовому советскому работнику. В кишлаках молились и курили опиум, и путались в десятках мелких обрядов, и просто не любили чужого любопытства. И, продавая барана, курицу и лепешку, требовали вполне справедливой расплаты, а если угощали, то всегда знали угощению цену, и степень радушия всегда определялась хорошо известной хозяину стоимостью затраченного. И женщины не любили, когда глазели на них — пусть и невинно — заезжие люди.
От Дымского не было тайн. Настоящей радостью и настоящей честью был приезд Дымского. Его зазывали наперебой в каждый дом, и каждая семья ставила лучшие угощенья, и женщины любезничали с ним наперегонки, словно никогда на Востоке не существовало порабощения женщины. И таджик, который поймал бы себя на расчетливой мысли, на мимолетной ревности или на скрытности перед Дымским, счел бы это за кровную обиду себе самому.
Я не знаю, чем объясняется это и откуда это пошло. Три года подряд я постоянно встречался с Дымским и точно знаю, что это так. Конечно, у него были враги. И если за шесть лет своих памирских скитаний Дымский не попался ни одному из них, то только потому, что памирские жители, порой незаметно для него самого, охраняли его. Они следили за ним в его рискованных переходах, они вырастали словно из-под земли, чтобы предупредить его об опасности; они не спали, когда он спал, и часами вслушивались в разговор ветра, и в шелест травы, и в молчание камней.
Я не сразу понял это. В тридцатом году я вообще не знал, что так может быть. В тридцатом году я удивлялся легендам о Дымском. Вероятно, им и сейчас удивляются многие.
Нас было четверо. Дымский был пятым. Мы блуждали в глубоких ущельях Дарваза, где жители не знали Дымского, ибо Дарваз не Памир. Из снежной бури с перевала Равноу мы скатились на измученных конях в не знакомую никому из нас долину Дара, упирающуюся в Афганистан. В долине Дара множество кишлаков — и ни одного русского человека. Жители сказали нам, что в долине орудует шайка басмачей — пришельцев из Афганистана. Она разграбила три кишлачных кооператива.
Мы остановились ночевать в не обозначенном на карте кишлаке Хундара, что значит — Кровавое ущелье. У меня была винтовка, у Дымского — винчестер. У остальных — наган. Никакого другого оружия у нас не было, и мы не особенно жаждали встречи с бандой.
Дома́ в кишлаке лезли один на другой, перепутав дворы, ограды, переулки, сады и арыки. Вся эта мешанина обвешивала склон высокой горы и обрывалась над отвесным красноцветным ущельем. В темноте мы поставили коней в какую-то яму, а сами забрались в квадратный дом без окон, с одной узкой дверью на крышу подпиравшего его кооператива. Трескучий жаркий очаг, вокруг которого мы расселись, одолевал нас въедливым дымом — мы варили в чугунном котле барана. Оборванные дарвазцы набились в дом, заранее зная, что баран слишком велик для нас пятерых.
Внезапно в дверь ворвались взволнованные голоса. К нам подскочил молодой дарвазец и быстро, испуганно проговорил:
— Сейчас приехало много вооруженных в халатах. Откуда — не знаю, зачем — не знаю, кричат; не знаю — басмачи, не знаю — кто.
Все наши дарвазцы притихли и разом кинулись к двери. Мы остались одни. Дымский встал, взял винчестер, пошел к дверям. У дверей обернулся:
— Я — на разведку. А вы — приготовьтесь!
Он исчез в темноте. Винтовка и патроны были при мне. Мы вышли на крышу кооператива. Свет очага выбивался из двери и наплывал на нас красными отблесками.
— Не стойте на виду, — услышал я чей-то сдавленный шепот. — Идемте выбирать позицию!
Я помню, мое сердце гулко отсчитывало каждую секунду промедления. Просто ли выбрать позицию? Нас обступала густая враждебная тьма. Приехав в незнакомый кишлак в темноте, мы не знали его расположения; на нас напирали какие-то черные ветви; лазая вокруг дома, мы натыкались на стены, падали в ямы, накалывались на шиповник оград, спотыкались о камни, о бревна; все было непонятно и скверно вокруг. Я попробовал лезть по склону наверх, чтоб найти свободное пространство на случай обстрела. Склон переходил в отвесный обрыв, и лезть было некуда, а наверху мрежил дальний костер. Один из спутников громким шепотом звал меня в дом, но дом в случае нападения стал бы для нас мышеловкой.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: