Владислав Владимиров - Закон Бернулли
- Название:Закон Бернулли
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1983
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владислав Владимиров - Закон Бернулли краткое содержание
Литературно-художественные, публицистические и критические произведения Владислава Владимирова печатались в журналах «Простор», «Дружба народов», «Вопросы литературы», «Литературное обозрение» и др. В 1976 году «Советский писатель» издал его книгу «Революцией призванный», посвященную проблемам современного историко-революционного романа.
Закон Бернулли - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Она считала, что любой руководитель с вечера должен думать о завтрашнем днем, должен уподобляться на посту грамотному, талантливому исполнителю, который вовремя нажимает на каждую клавишу, чтобы звучала красивая, слаженная сюита. Плох тот, кто ругает своих подчиненных за то, что ничего не получилось или вышло наперекосяк — виноват он сам. Самый главный секрет — расставить людей сообразно их возможностям, доверять им и проверять, но не стараться все делать самому за всех, и тогда не будет недоработок, тогда ругать будет некого!
Словом, крепко она держала его, и д е а л ь н о г о человека, на грешной земле, и эти словесные поединки воскрешали в его памяти забавные рассказы отца, который слушал в Военно-медицинской академии лекции ученого, лицом поразительно напоминавшего Бернарда Шоу. Насупленно оглядывая из-под кустистых седых бровей аудиторию, ученый начинал свои выступления непременно с сорокапятиминутной (ровно академический час) раскачки, говорил неодобрительно о наступивших порядках, об очередях за хлебом, мануфактурой и керосином, о пожарах, спекулянтах, каких-то малопонятных взрывах, вселенской дурости и грызне в научных и литературных кругах, отвратительной работе почтовых ведомств, ералаше на транспорте, начиная с извозчиков, о морковном чае — словом, тем у него здесь была необъятная масса… А однажды, накануне лекции о нервнотрофической регуляции сердца, он, полупрезрительно сморщившись, заканчивая «академические» рассуждения о пьянстве, продекламировал громким и ровным голосом: «Сами, сами комиссары. Сами все профессоры. Сами гоним самогон по всей РэСэФэСэРы». И так весьма сожалительно посмотрел на первые ряды хихикнувших было слушателей, что те разом осеклись, зная, как был крутоват старик во гневе. С ним, конечно, пытались беседовать. Он с ядовитой вежливостью отсылал желающих п о д а л ь ш е и вопрошал: «А сами вы чай пьете цейлонский, но не морковный?» И следующую лекцию открывал публицистичным введением о пайках, костеря на чем свет стоит хапуг, мешочников и бюрократов, засевших якобы повсюду. И, только утешив свои искренние заблуждения и удовлетворившись смятением на лицах слушателей, приступал к основной теме. Но не помешало ему это ерничество стать потом настоящим патриотом и гражданином и обратиться с вдохновенным письмом к молодежи — в ней увидал великий старец воплощение того, о чем он возвышенно думал и мечтал.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Когда он медленно подошел наконец к Костиному дому, то первое, что заметил, — все окна в квартире горели, и эта вечерняя, ни с чем не связанная торжественность испугала его. Он знал — в доме никого не ждали — приходить к Косте среди недели было некому. Но у подъезда пофыркивало старое такси, и чубатый шофер читал «Вечерку» под светом маленькой лампочки — лампочка горела без матового плафона, и лицо водителя, на котором лежали резкие тени, показалось ему огорченным и сосредоточенным.
Он стал подниматься на второй этаж.
Каждая ступенька давалась с усилием.
«Петя + Гуля = любовь!» — прочитал выбитое отверткой или долотом на густо крашенной стене. Влюбчивый Петя, соседский сын из второго подъезда, вложил в извечную формулу бездну пещерного старания. Восклицательный знак он пробивал сквозь штукатурку до красных кирпичей. «Отменный олух. И когда успел? Не грех отшпандорить как следует. Поди со временем тоже станет швыряться альбомами с балкона», — неприязненно предположил он, и его собственное имя, варварски врезанное в стену, стало ненавистным, словно плюсовали его не к Гуле, а ладили к самым неприятным для него фамилиям, люто неуважаемым в его родословной, начиная с деда.
Отец пробасил однажды, располагаясь к вечернему чтению Жана Мелье и почему-то очень пристально посмотрев сначала на красную книгу «Завещания», а потом на него: Петр… Петр — не Великий, а просто Иванов. Да-а, просто Иванов и — все тут!»
Задумавшись, постучал кончиками пальцев по красной обложке: «Впрочем, не бывать бы тебе Петькой, коли знать бы, что свет родит таких иродов, как Врангель и Краснов».
«А кем бывать, батя? — спросил он. — Трактором или Сельсоветом?»
Отец посмотрел на него обалдело: «Ты что за околесицу несешь при меньшом-то брате? Врангель, говоришь, ни при чем? Странная, говоришь, логика? Может, лишнего выпил батько?»
Но нет, трезвым был отец, не пил лишнего.
Возразил он тогда бате, общеизвестные примеры привел. Отец выслушал, помолчал-помолчал и выдал ему затрещину, через силу, но все-таки выдал.
Значит, были у отца на то самые веские основания, ибо вообще он рук никогда не распускал. На что милая матушка почти всегда была не в ладах с отцом, а тут согласилась и промолчала, только прожгла отца с виду бесстрастным взглядом, резко встала из-за машинки и вытолкнула младшего сына — Игорька, за дверь, а сама потом будто с чрезмерным вниманием засмотрелась в окно; там за окном, помнилось, над первым этажом старого деревянного дома напротив, пятнели следы от аршинных букв, сбитых напрочь, но все-таки вполне можно было прочитать: «Общество взаимнаго кредита. Ионовъ и К°».
Мама, мама, дорогая мама! Ты совсем редко стала видеться во сне, а если приходишь, то всегда грустной, иногда с Игорьком, иногда без него, не улыбаясь, милая мама. И, встречая тебя, мама, глядя на тебя, плачешь, потом просыпаешься от этих жарко закипающих в горле непрошеных слез и, не успевая застыдиться их, снова плачешь уже не во сне, а наяву, молча, уткнувшись в смятую подушку, кусая ее зубами, а слезы капают и капают.
И сейчас он подумал, что п р е ж д е революция жила в семьях, а т е п е р ь она почти полностью перекочевала в книги. Но это т а революция перекочевала с подпольем, листовками, манифестациями и баррикадными боями, с митингами и гражданской войной, а самое главное ее обретение — новый человеческий х а р а к т е р — закрепилось в жизни, и это, пожалуй, главнее главного.
Но вот беда — не передается этот характер, как дедовы часы «Мозер» или красная книга «Завещания» Жана Мелье, готовым из рук в руки не передается, как жезл т а ч а т ь его надо всякий раз сызнова и сызмальства, кропотливо, упорно, не полагаясь на магическую силу громких заклинаний, не боясь правды в большом и малом. Чтобы стать человеком, надо уметь одно — говорить правду, видеть ее и следовать ей.
Он хорошо помнил и другое — слова писателя, услышанные им в семнадцать лет, в двадцать девятом году. Он их запомнил на всю жизнь.
— Считаю мещанство самой злой и не преодоленной покуда опасностью, — говорил им писатель негромко, но убежденно. — Болезнь сидит глубоко, лечить ее трудно. Ветхозаветный мещанин ничто в сравнении со своим потомком. Нынешняя поросль его, прокаленная огнем революции, хитра, предприимчива и мстительна. Аппетиты его велики, сожрать он может много…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
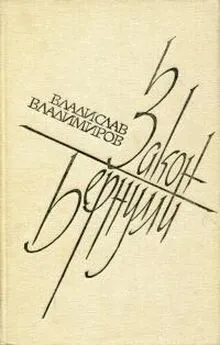




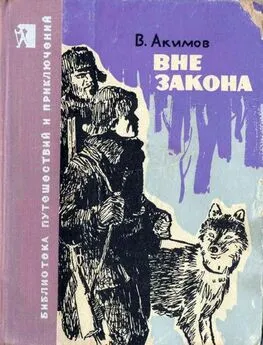
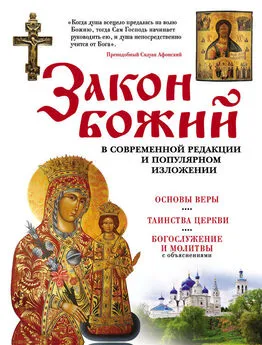

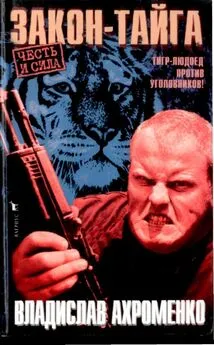
![Владислава Мека - Законная Преступность [СИ]](/books/1100657/vladislava-meka-zakonnaya-prestupnost-si.webp)