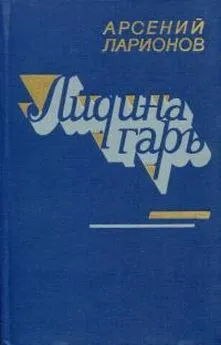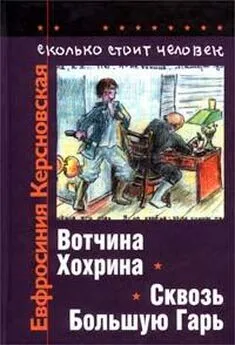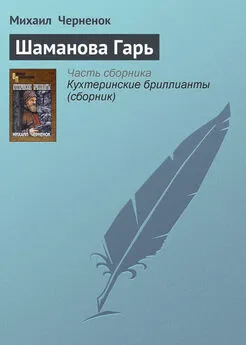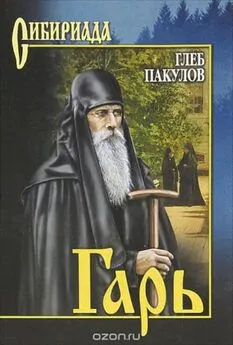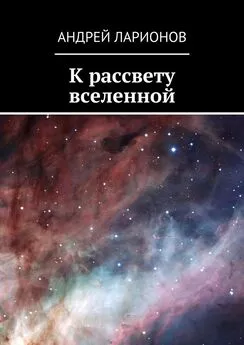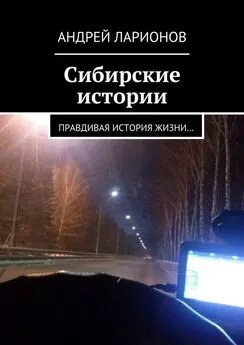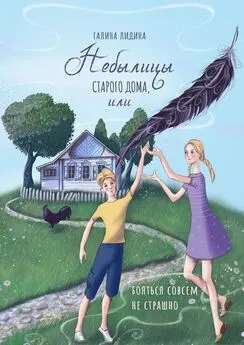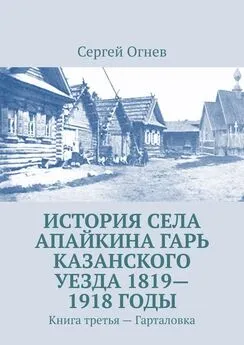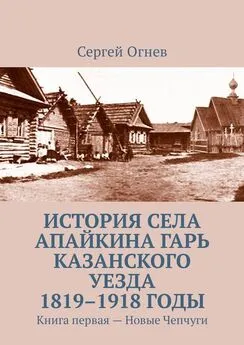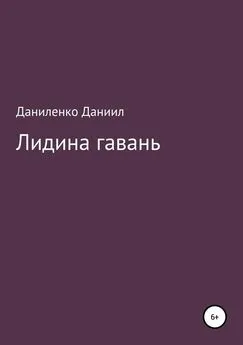Арсений Ларионов - Лидина гарь
- Название:Лидина гарь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современник
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Арсений Ларионов - Лидина гарь краткое содержание
Лидина гарь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Я там ведро приспособил сверху, чтобы в трубу не задувало, вот оно, наверное, и полетело.
— Гляди, как лютует. Хотя чего уж тут ему осталось лютовать, меньше недели — и февралю конец. А я все сижу в деревне.
— Так и хорошо.
— Подлей-ка мне еще чайку. Так о природе человеческой… А человек, Юрья, как существо, наделенное разумом и стоящее по своему развитию выше всего живого в природе, понимает, что во всякого рода жизненных обстоятельствах он защищает не только тело, а жизнь свою, настоящую и будущую. Но между этими понятиями — защищать тело и защищать жизнь — глубочайшая пропасть лежит — так далеки они друг от друга. И в то же время они как бы и одно целое.
— Может ли так быть?!
— А отчего не может — может. Вот бывало с тобой так? Идешь низом, вдоль нашего Домашнего ручья, долго идешь, глаза устанут, душа отяжелеет, опечалится, уж и красоты никакой не видишь. А поднимешься в гору, на холм, глядь, что кругом-то делается, глаз-то пробежится по окрестности раз-другой, мигом окинет все и пойдет степенно все облюбовывать, примечать то, что вроде бы раньше и не видел. И чувствуешь, как тебе полегчало, душа опять затеплилась, заволновалась, ах ты жизнь, диво дивное. Бывало с тобой такое?
— Бывало…
— Видишь, так с людьми во все времена случалось. Ведь было время, когда человек защищал тело лишь инстинктивно, скажем, как медведь не лезет в огонь, испытывая боль, так же и человек. Жили и чувствовали они тогда одинаково. Прошли тысячелетия, прежде чем человек понял и оценил, что защитить, сохранить собственное тело — это продлить жизнь, и не только свою, но и жизни других связанных с ним людей… И инстинкт этот животный, как родник, пробившись сквозь многомиллионную толщу человеческих жизней, через века, преобразовался и вылился в неодолимую потребность сохранять жизнь своей семьи, народа, потребность сознательную, понимаешь, совершаемую по воле ума. И она, эта потребность, вобрала в себя защиту всего святого — дома со всем укладом жизни, родной земли, на которой вырос, на которой росли родители и будут расти дети, веру в лучшее в самом человеке — его ум, честь, справедливость, доброту, щедрость, равноправие. И более всего — благородное самопожертвование своей жизнью ради жизни родного дома, родного народа… — Он перевел дыхание и будто бы окинул взором дальние, неоглядные плесы этой человеческой реки, и словно сам впервые удивился красоте, которую несли ее могучие воды. — Вот, Юрья, во что преобразовалось эгоистическое, животное чувство — защищать собственное тело. Какое грандиозное здание ум и душа человеческая построили на этом инстинкте, данном от природы…
— Почему тогда Афанасий Степанович по-прежнему считает, что темна природа человеческая? Он что, этого не знает?
— Это преобразование, Юрья, на всех одинаково не распространяется. Кто-то преобразовался, а кто-то так эгоистом, собственником и остался и мало заботился, чтобы стать иным, жил, мол, в согласии с самой природой человека. Да ведь для этого и условия нужны. А они у простого народа появились недавно. Жизнь, она ведь как складывалась, с одной стороны — простой человек боролся с собственностью, с властью собственника, с другой — стремился хотя бы чем-то владеть, что-то иметь. Трудное противоречие жизни, узел, его надо было разрубить! И когда мы царя-то свергли, когда новые-то порядки заводили, мечтали, чтобы многие, целые народы, миллионы людей были бы как бы одним человеком — человеком светлого ума и доброй, справедливой души, человеком благородным, человеком-созидателем во всем для всех! Вот, Юрья, мечта какая у нас была, дивная и дальняя!
— Так то лишь мечта, до дела было далеко.
Селивёрст Павлович громко рассмеялся:
— Верно, а ты откуда знаешь? Ну и старый же ты, Юрья, старичок. А мы-то, брат, в отличие от тебя, верили, что нам все сразу и удастся, все, о чем мечтали. Ан нет. Оказалось, что не сразу такое дело делается, не сразу. И все оттого, что чувство это — защищать свое тело, холить его и жить в усладу только собственную — живет в людях, не у всех, конечно, покрепче нашей мечты. Невежество — зло, долго от него надо еще освобождаться. Но коварная изощренность образованного ума может быть еще более тяжким злом… Ну, да для тебя это еще механика сложная — все понять и во всем разобраться. Обожди малость…
А я, слушая его, думал про себя, что вряд ли все могут быть добрыми и красивыми, Селивёрст Павлович хочет невозможного. И прав Афанасий Степанович, реально оценивая людские возможности и природу человеческую.
— И все же несправедливости сегодня еще хватает, ее даже больше, чем добра. Но от кого-то ведь это зависит, сама по себе несправедливость не возникает? — с горечью сказал я, чувствуя, что душа моя не пережила всего случившегося прошлой весной. Глухое, яростное сопротивление нраву и воле Евдокимихи во мне жило прочно, иногда отзываясь тяжелыми душевными переживаниями от собственной беспомощности. Это же чувство я пережил и сегодня в клубе.
— Зависит, а как же… От многого зависит.
— Но все-таки от чего?
— Тут одним словом, Юрья, не скажешь. Я ведь тоже об этом постоянно думаю. Ты только первые щелчки получаешь от жизни.
— От людей, при чем здесь жизнь.
— В отношениях с людьми и жизнь наша складывается. А я-то за свой век всякое видал — и справедливое, и несправедливое. И поскольку был у истоков, когда жизнь новая закладывалась, то не раз и внутрь себя заглядывал, может, я сам где и ошибся… Такое ведь тоже не исключено. Только закладывали-то мы, Юрья, верно, исходя из жизни нашей, жизни люда простого…
— А почему именно простого?
— Почему? А я вот тебе две народные присказки расскажу. Первая — про золото. Звал, значит, Ячмень Пшеничку: «Пойдем, говорит, туда, где золото родится…» А Пшеничка ему в ответ: «У тебя, говорит, Ячмень, ус-то длинный, да ум короткий. Зачем нам с тобой за золотом идти, когда оно к нам само может привалиться…» И вторая — о благоразумии. Шел мужик по дороге, долго шел. И вот навстречу ему три мужика — Солнце, Ветер и Мороз. Ну, мужик уважение проявил, трем мужикам поклон отвесил. А после того снял шапку, да еще один поклон низкий, в пояс, отвесил только Ветру.
— А за что Ветру такая честь?
— За что? Слышишь, как он свищет, окаянный, силища-то у него какая, того и гляди дом вместе с нами унесет. Видно, и не успокоится всю ночь, так и будет бесноваться, раз с вечера лихо задул. Да, поклонился мужик Ветру, а Солнце и рассерчало: «Постой, говорит, мужик, вот я те сожгу!» А Ветер говорит: «Я тебя, Солнце, перекрою и охлажу». Тогда Мороз пригрозил: «Смотри, мужик, я те заморожу». А Ветер улыбается: «Я тя отдую, Мороз!» И в той и в другой присказке мудрость народная воспевает благоразумие мужика. Народ наш русский испокон веку был этим славен. Не случайно Владимир Ильич Ленин пролетарскую мораль, ту, что он умом, душой, гением своим возвысил и поднял до высочайших образцов человеческих отношений, вывел из жизни нашей, рабоче-крестьянской, в общем-то жизни скромной, ровной, в которой нет головокружительных, сладострастных завихрений, взлетов и падений. Ведь простой человек вполне определенно относится, скажем, к лени — он ее не уважает и воздает по заслугам трудолюбию, не терпит бахвальства и чтит искренность, простоту, совестливость, честность.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: