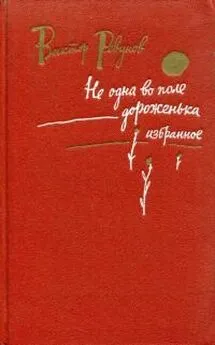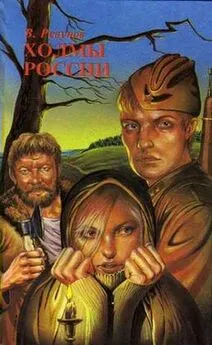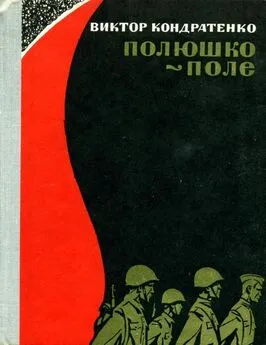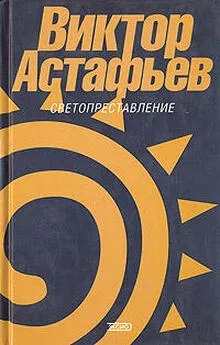Виктор Ревунов - Не одна во поле дороженька
- Название:Не одна во поле дороженька
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:5-235-00142-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Ревунов - Не одна во поле дороженька краткое содержание
Не одна во поле дороженька - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Чую, тянет меня кто-то за ноги. Вытянул на сухое. Гляжу и глазам не верю: немец. Мундир на нем обгорелый, сам чуть живой. В крови, в гное тряпье на ногах.
Пополз я от него. Не до вежливости было: не в гостях, а на войне.
Он — за мной, не отстает. Долго так тянулся, да тоже ослабел. Сел у сосны, голову свесил.
Ткнулся и я под куст. Заснул или так, в беспамятстве, минута какая вышла: будто вижу я мать, молодая-молодая, подошла ко мне, а я совсем маленький, лежу под лоскутным одеяльцем.
«Сынок», — говорит. Схватила меня на руки и побежала. Бежит по траве, а трава все выше и выше, вот-вот скроет нас, и вдруг уронила меня, никак не найдет в траве.
«Мама… мама!» — кричу.
Раскрыл глаза. Немец рядом. Что делать? Вроде бы и не враг, раз выволок меня из трясины. Пусть для какой-то своей надежды, но верил, что во мне надежда его, не побоялся, что убью. Хоть и не было у нас оружия, но ведь и палкой можно убить. Про это и не думал, чтоб взять и убить его. Толк-то какой? Он, сказать, и сам уже отживал.
Был он моложе меня, зарос, худой. Глаза — как без света, да он редко и открывал их, — будто спал.
Подполз я к мочажине, а мочажина так и кипит от лягушек. Набил ими котелок, а огня нет.
«Огонь есть? — говорю немцу. — Фоер-фоер».
Зажигалку дал. Разжег я костер и из этих лягушек «уху» сварил. После не доводилось пробовать, а тогда их мясцо на лапках повкуснее курятины показалось.
Похлебал этой «ухи» и он. Вот ведь как люди у котелка сошлись. Ведь можем жить, а что воюет?
Нет, не зверь человек, не в инстинктах дело. Беспомощен бывает человек перед негодяйством, терпит — тут все и дело. Где человек-то остановится, посовестится, негодяй переступит, силу возьмет, хоть с кровью, а возьмет. И этой силой своему негодяйству служить заставит и молиться. Разве поля с убитыми и реки, мутные от крови, — от человека? От негодяя, негодяй так захотел, так негодяю надо.
Тогда я про это не раздумывал, конечно. Теперь вот задумываюсь, как вспомню.
Что мы тогда похлебали из одного котелка — это должно помниться? На другой день он совсем плох стал, на спину завалился. Глядит в небо, а в глазах слезы… А я чую — дорога рядом.
«Эх, — думаю, — неужели забудет он русского человека, пропадет это? Может, вспомнит меня, кому-нибудь и нашим поможет».
Выволок его к дороге.
«Тут, — говорю, — ваши проезжают теперь, подберут, а мне еще своих искать надо».
Снимает он свои ручные часы и мне на память дает.
«Рус, — говорит, — возьми».
«Не надо, — говорю, — ты не забудь».
В этот день прибился я было к хутору. Вот, думаю, поем тут хоть корку какую, картошину.
Тут меня и схватили немцы у самого хутора. Погнали, а я и идти не могу.
Кое-как с палкой добрался до села. В селе таких, как я, человек двести: голодные, рваные, раненые.
Утром тронулись. Не знаю, как я из этой колонны не вывалился. А вывалился бы — тут и конец. Лежачих пристреливали или прикладом в голову.
Черно перед глазами, а то вдруг солнце блеснет, всколыхнется все — и земля, и лес.
«Держись, браток», — слышу. Кому я нужен? А вот ведь придерживают, жизнишку мою кому-то жаль было. Да бросить ее к черту! Что тут одна моя жизнь — мошка в пожаре.
Федор Максимович шел некоторое время молча, в задумчивости. На склоне кювета желтели цветы мать-и-мачехи, как будто сейчас вдруг и зацвели — так заярчило от них.
— А самое страшное впереди ждало. Не знал.
Дотянул я до какой-то деревни. Тут привал разрешили, в сгоревшей ржи. Черное поле. Сел… Нет уж, больше не встану. Детство вспомнилось. Птиц я очень жалел. Думал, как им жить страшно: человек их и поймать и убить может. А теперь летели птицы в небе, над людьми, над дорогами. Люди теперь ловили и убивали друг друга. А птицы летали. Вольное небо, луга, реки. Вот взмахнуть бы руками и полететь!
Вижу, раненых немцев везут в телеге. Один глядит на меня. Так и дернулось сердце: узнал я его. Он!
«Рус, — кричит, — рус!»
Своим он что-то объясняет.
А вскоре и пришли за мной двое. В избу привели, поесть дали, шнапсом угостили.
Пристроили меня в госпиталь, тут и подлечили. А как чуть окреп я, при госпитале на кухне стал работать: дрова колол и пилил. Хлеба, еды всякой вволю было. Да ведь я подлец был бы, если бы только для живота своего старался!
Ночью выбрал момент, бежал.
Попал к партизанам. Отряд небольшой, только собирались.
Вот глядит один на меня, глаз не сводит.
«Может, встречались где? — спрашиваю. — Глядишь ты так на меня».
«Может, и встречались», — отвечает.
Вызывают меня вдруг к командиру. Гроздев фамилия. И тот человек тут.
«Ты со мной рядом в колонне шел, когда нас гнали, — говорит. — Я тебя держал, чтоб ты не свалился. Вот где встречались. Забыл?»
Высокий, худой такой, лицо желтое, больное: лихорадка его мучила, и глаза желтые, усталые. Вот ты какой друг!
«Как же это забыть», — отвечаю.
«Гад! — кричит вдруг. — А как тебя немцы встретили, за какую такую службу кормили-лечили?
Рассказал я, как было все.
«Почет себе какой у врага заслужил, — командир говорит. — Знаешь, что за это бывает, за такую службу и дружбу?»
«Какая, — говорю, — служба? Службы никакой не было».
«Молчи, сброд! Расстрелять! Уведи его, Иванов».
Повел меня Иванов. А командир вышел из землянки и кричит:
«Подальше его, чтоб не вонял!»
Вот как вышло.
Иванов сзади идет с автоматом.
«Не виноват. Ей-богу, — говорю, — не виноват. Я честно в отряд пришел».
Остановится… Ну, конец!
«Иди, иди», — говорит.
Иду.
«У меня, — говорю, — и отец рабочий, и мать, и сам я на заводе работал. Не виноват, ей-богу. Вот поглядел бы ты мне в душу: не виноват, а ты меня убьешь, да так и останется, что я сволочь. Мать узнает… Иванов, поверь мне. Если бы жив был, то и доказал бы, что я не сволочь. Поверь, Иванов. Ты же человек».
Остановился он. А мне дальше идти некуда. Обрыв. Березка кривенькая. Взял я за стволик ее, гляжу вниз. Оползшая земля там, корни старые. Жутко!
«А все-таки храбрый ты человек, — сказал он, и слышу — выстрел.
Вырвалась березка от меня. Ей жить. Падаю, закричать хотел, и тут как чугунное что в голову ударило…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Жив! Ноги, голову и грудь болью разламывает. Встать не могу. Перед глазами красно все — красные деревья, земля красная. И будто бы бегу я, а впереди обрыв, а там зарево красное. Упал, вцепился в землю. В голове красное распухает, лопается и течет. То голос почудится, то глаза. Знаю я эти глаза. Я с ней на санках с горы катался. Снег в полушалке, морозом и теплом, ее теплом и румянцем, от щек пахнет. Люба ее звали. Любил я ее там, на своей окраинке… Заболела и умерла. Зимой ее хоронили.
В сарае за дрова тогда мерзлые забился я и плакал. А тут вдруг живые глаза ее — вот они! Живая! Срывает зубами варежки, прячет руки под мое пальто. «Люба… Люба», — говорю ей. А она руку мне на лоб кладет и шепчет: «Не Люба я… Варя… Варя…» Это она мне сказала, Варя.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: