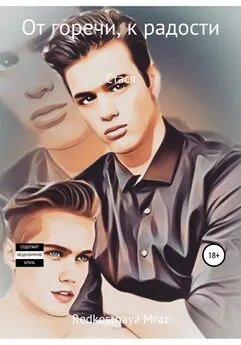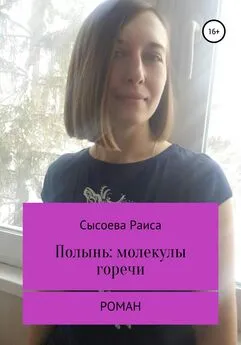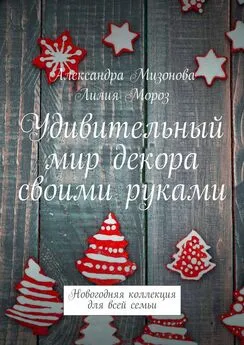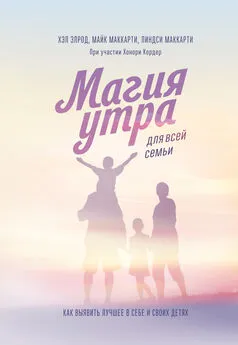Фёдор Непоменко - Во всей своей полынной горечи
- Название:Во всей своей полынной горечи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1980
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фёдор Непоменко - Во всей своей полынной горечи краткое содержание
Во всей своей полынной горечи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Он порылся в рюкзаке, отломил кусок дорожной колбасы. Глянул в окно — сарай словно наблюдал за ним пустыми глазницами обугленных дверей. Если б не он, Толька еще мог бы надеяться, что вот сейчас во дворе появится отец, слезет с Гнедка, привяжет его у шелковицы, разломит «тулку», проверяя, не заряжена ли, и повесит на колышек в каморе. «Прибыл, значит? А я, это, под Хуторами был. Трактористы видели там на озерке, ну у границы которое, табунки утей. Дай, думаю… Ну, здоров. Значит, прибыл? Ну-ну…» И все наверняка было бы так, как будто они вчера только расстались. Отец не терпел всяких там излияний чувств при встречах или расставаниях. Приехал — значит, хорошо. Чего же еще?
Все это, возможно, было бы, если бы не сарай. Он мешал, что-то зачеркивал, лез в глаза, обезображенный, кричащий.
Толька кинул Ангелу угощение, оправил под ремнем гимнастерку, все еще оглядываясь, осваиваясь. День был не по-осеннему теплый и солнечный. По ту сторону села на возвышении, видная издалека, белела новыми строениями колхозная усадьба. Ряд осин в конце огорода заметно поредел — должно, прошлись по нему топором. «Поживем — увидим…» — повторил про себя Толька.
В сарае еще стойко держался горький запах дыма и пожарища. Откуда-то сверху, со сложенных горкой снопов ржи шарахнулась курица, вылетела в дверь, обдав Тольку теплым духом насиженного кубла. В углу, отгороженном досками и обаполами, лежал брикет, свежий, недавно привезенный. Вот тут обычно стояла приставная лестница на чердак, всегда забитый к осени сеном, клевером, мешанкой. В теплую пору Толька частенько, придя поздно с гулянки, проводил на нем остаток ночи, забывшись в сладком непробудном сне. Там и постель была, и старый кожух, дедовский. Сгорело, видно, все. Мать, судя по всему, ничего не предпринимала, чтоб поправить сарай, от которого и остались-то одни стены, ждала его, сына, взрослого мужика, ждала хозяина.
По улице протарахтела подвода, остановилась напротив двора, и какая-то баба в фуфайке, перетянутой в поясе платком, слезла с грядки телеги. Толька выглянул, узнал, пошел навстречу, нарочито не спеша, будто сомневаясь и не веря, растягивая такую короткую минуту…
— Что ж ты не сообщил, сынок? — всхлипнула мать, скривилась, попыталась усмехнуться сквозь слезы. — Мы бы тебя на станции встретили!
Сын нагнулся, по давнему обычаю поцеловал ей руку, шершавую, черную, пахнущую осенней пресной землей и свекольной ботвой. Мать прижала его голову к себе, заплакала.
Возле телеги стоял ездовой с кнутом и широко, во весь рот, улыбался.
Несколько дней пробежало незаметно, будто вода стекла в песок. Были они, как близнецы, похожи один на другой — праздные, неспешные.
Так уж повелось в Сычевке, что и проводы новобранцев, и приезд отслуживших службу отмечались обстоятельно, торжества затягивались на неделю, а то и больше. Двери дома не закрывались ни утром, ни вечером: шли друзья — и свои, сельские, и из других сел, с которыми ты в свое время учился в одном классе или в разных классах, что существенного значения не имело, шли те, кто демобилизовался годом или двумя раньше и у кого, ясное дело, есть о чем потолковать с тобой, вчерашним солдатом и вообще свежим в селе человеком; приходили, разумеется, родичи, близкие и дальние, соседи, наведывались и не родичи и не соседи, а порой и люди случайные, совсем из другого конца села, оказавшиеся нечаянно кстати… И не только шли, но и виновника торжеств приглашали к себе — не приличия ради, а всамделишно, от души, потому что в каждой хате было что и выпить и закусить, был бы предлог. А если и не приглашали, то ты обязан согласно неписаным правилам проведать, нанести визит, заглянуть к тем, с кем ты состоишь в родственных или дружественных отношениях, а если ты оказался на чьем-то подворье просто так, без всякого умысла, по воле случая, то и тут тебя не отпустят, а пригласят в хату, а коли в хату зашел — непременно усадят за стол и нальют «стограмм», а не хочешь или не можешь «стограмм» выпить, то хоть «граммулю» должен, и отказываться неприлично, потому что отказом своим ты кровно обидишь хозяев, желающих тебе только добра и счастья…
В эти первые после возвращения сумбурные дни Толька чувствовал себя еще гостем, человеком приезжим, связанным с селом и домом только родственными узами. Он не сразу свыкся с мыслью, что здесь, в Сычевке, надлежит ему жить. Много ли, мало ли, но жить. Мысль эта созрела сама собой, исподволь, вскоре после того, как он догадался (его, как гостя, в детали не посвящали) о том, что мать набралась долгов, чтоб отметить приезд сына «не хуже, чем у людей». Да и не мог он, молодой и сильный, оставлять дом в таком виде, в каком его застал, — запущенным, жалким, сиротским, когда рядом стояли добротные ухоженные усадьбы и люди жили в достатке, строились, обновлялись. То чувство малости, невзрачности всего здешнего, сельского, которое он особенно остро испытал в первые же часы пребывания в родном селе, очень скоро начисто стушевалось, уступив место удивлению. Оказывается, с приходом нового председателя и введением денежной оплаты Сычевка в самом деле преобразилась. Дело было даже не в том, что, скажем, у ставка, расчищенного и зарыбленного, построили молокозавод, что на колхозном дворе выросли новые коровники, что вместо захудалого, с угрожающе провисавшим потолком сельмага работал теперь просторный сельунивермаг, в котором хоть на велосипеде гоняй, что от села тянули шоссе к Хуторам и дальше, к железнодорожной станции, где был сахарный завод, что открыли карьер и что в район регулярно, два раза в день, ходил рейсовый автобус… Эти внешние перемены в облике села, конечно, произвели впечатление на Тольку, ожидавшего застать Сычевку такой, какой он ее оставил. Однако удивлялся он не столько этому, сколько тому, что с первых же дней бросилось в глаза: новому отношению к работе, к колхозу, новым порядкам. Это было, пожалуй, самой большой неожиданностью. И еще он сразу подметил у односельчан одну особенность: они теперь все считали. Считали гектары, литры молока, центнеры и, конечно, заработок.
— Отстал ты от жизни! — говорил ему Володька Лычаный, который на правах дружка и человека, лично доставившего гостя к самому порогу дома, наведывался к Багниям при каждом удобном случае. — Как отстал? В конце смены, скажем, я знаю, сколько приблизительно вспахал. Так? И блокнот у меня есть… Погоди, сейчас покажу. Видишь, вот записано, сколько я вчера ходок сделал и сколько кукурузы перевез, так? И что вчера и позавчера. И так далее — за каждый месяц! А в конце месяца я знаю, сколько у меня рупий выходит. Ковтун говорит, что, мол, каждый должен уметь считать. Есть у него такая привычка. Зайдешь к нему в кабинет, станешь о чем-нибудь говорить, доказывать, а он слушает, нос покручивает, а потом тут же на листике карандашиком бац-бац, все подсчитал, и сразу тебе все ясно, есть ли выгода или нет. Все на цифры переводит, а с цифрой не поспоришь, если в ней смысл есть. Это такой мужик, что у него копейка не пропадет, понял? Сначала мы промеж себя посмеивались, а затем глядим — дело! Вот мы теперь и считаем! — Володька, подмигнув, хохотнул. — Учетчик себе записывает, а я себе. А если не сходится, я в бухгалтерию. На этот счет у нас теперь железно! А то ведь, сам знаешь, как при Демешке было: сколько бы ни вкалывал, а получать кинешься… Трудодней много, хоть хату ими обкладай на зиму, а заработка ни хрена. Теперь не то. Теперь и доярка, и шофер, да и на любой работе каждый знает, что получит в конце месяца. Как, к примеру, на заводе. Социализм — это, брат, учет плюс это… Забыл, что плюс. Но учет — это точно. Правильно я говорю?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
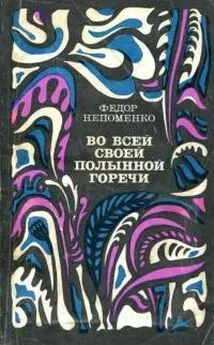
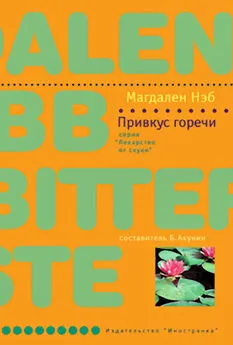
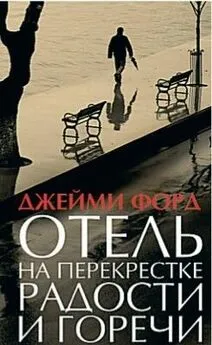
![Игорь Федорцов - Дождь в полынной пустоши. Часть вторая [СИ]](/books/1078359/igor-fedorcov-dozhd-v-polynnoj-pustoshi-chast-vto.webp)
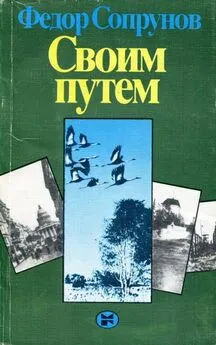
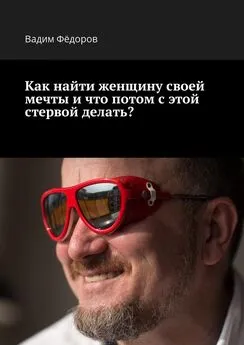
![Игорь Федорцов - Дождь в полынной пустоши [СИ]](/books/1097531/igor-fedorcov-dozhd-v-polynnoj-pustoshi-si.webp)