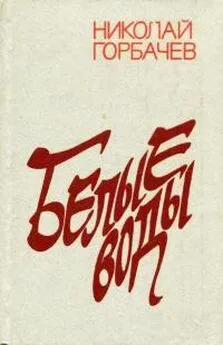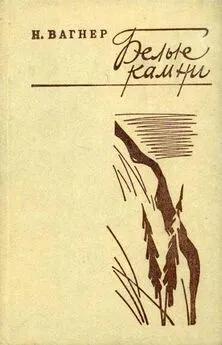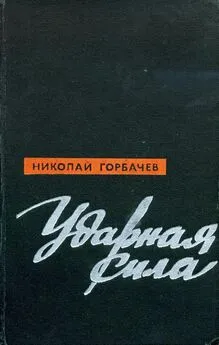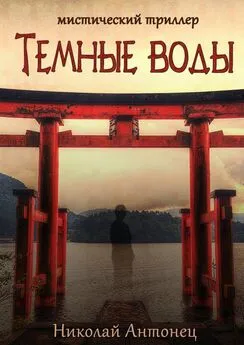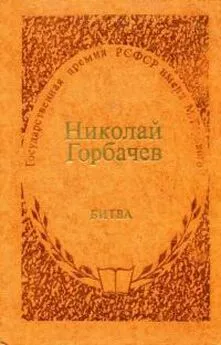Николай Горбачев - Белые воды
- Название:Белые воды
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1985
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Горбачев - Белые воды краткое содержание
Белые воды - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Он болит у вас? Чувствуете его?
— Чувствую… Собаку с шерстью могу съесть! Добавки бы, товарищ военврач, в красноармейской столовке…
— Гм, уникальный случай!..
А через неделю после «рентгеносмотра» вышел приказ командира полка: Косте «согласно медицинскому заключению» устанавливался двойной паек.
…Сходились они — стенка на стенку. Гусляковские — все больше заводские, со свинцового, с обогатительных фабрик, а против вставали сазоновские — парни рудничные, крепыши, здоровяки, «коногоны», как свысока, презрительно обзывали их ребята с заводской стороны.
Ему, Косте, почитай, каждый раз доставалось вставать против Степки Козла, вожака «коногоновской» стенки, отпальщика с Соколинского рудника — тот «пудовиками» игрался, будто волосяными мячами для лапты, однако был же и неповоротлив, увалист, ровно барсук, шел обычно в центре стенки мрачно, проломисто. Знал Костя: задача у того была простой, нехитрой — с первого напора свалить, смять супротивника, а уж лежачего, известно, не бьют — и делу конец. Костя частенько не давал Степке Козлу осуществить свой «коронный маневр» — увертывался, наносил чувствительные удары; Степка же, если не удавался первый маневр, молол, будто ветряк, мерзлый морозный воздух кулачинами, пыхтел, исходил паром, рванув нагольник так, что сыпались пуговицы в снег, серые глаза стекленели на вскраснелом, округло-поддутом лице, — входил в раж.
Не всегда выходило победно-гладко, напарывался Костя на кулаки Степки, являлся домой в изодранной одежде, кровенились сопатка, губы. Отмывая его под рукомойником, трясясь от волнения, Катя причитала:
— Ну, когда угомонишься? Когда?!.. Срамишь и себя, и меня… Горе мое!
Перебивали ему нос, хрящ срастался, однако нос стал с горбатинкой, малость и потянуло, повело его в сторону. «Наплевать, женился!» — утешал он Катю.
…Эх, Катьша, Катерина, Катя!.. А ладно ли, в согласии ли жили? Тоже разно бывало, по-всякому складывалось. И те ссоры, как понимал он теперь, большей частью происходили по мелочам, пустякам, которым придавалось более повышенное значение, чем они того заслуживали на самом деле: то он задержался с дружками, закалякался, то она, Катя, не так посмотрела на мужика, то он неласково обошелся с ней, а в другой раз померещится — жалеет, что связала судьбу с ним, а не с Андрюхой, брательником… Чаще же размолвки возникали из-за его, Костиной, роли примака, — упрекал Катю, выговаривал, будто не ко двору он, не так его привечают ее родители, раздражался, случалось, выпивал, поздно являлся, а наутро маялся-терзался, да будто уж сделать первым шаг к примирению — неловко, не к лицу, — макарычевское опять противилось. И чаще все же ей приходилось делать шаг навстречу: «Ладно, Костик, сама судьбу выбрала… Не могу так, ровно чужие».
Теперь передумывал все, что было с ним в его не такой уж долгой жизни, однако казавшейся сейчас неимоверно отдаленной, — возникали множество раз одни и те же факты и детали в обостренной, как бы промытой памяти, — выходит, та распахнутость, с какой очнулся, то ощущение светлости до конца не утратилось, не улетучилось. И он в этом новом для себя чувстве критичнее и жестче судил себя, и, должно, оттого в нем рождалась, будоражила досада за свое прошлое, за «куролесенье». Но вместе с этим внутри него, где-то в глыби, сталкивалось в веселой сшибке и осознание, что позже-то, в этих своих нынешних делах, он ни в чем не мог упрекнуть себя, и это как бы уравновешивало многое и в собственных его глазах, и перед ней, Катей.
Ему все чаще теперь, когда тревога за свою судьбу отступала, когда не стало единственного и всеохватного стремления — выйти к своим, прорваться любыми путями, — толкались мысли о доме, сжигали сладостным чувством озабоченности — как они там все — обе Кати, мать, отец, брательники, старики Косачевы? В коротких вспышках воображения рисовалось самое неожиданное, — то кто-то из них болеет, может, дочь Катя — маленькие часто болеют! Или — там спокойная, мирная жизнь, о войне ни сном ни духом не знают, — отсюда ведь не одна тысяча километров до их Свинцовогорска? Но после успокаивала догадка: что бы он ни воображал, ни рисовал себе, будет далеко от истины, очень далеко…
На ум наплывало и внезапное и совсем даже новое: доведись сейчас, выпади такое, он бы не прочь пожить опять вместе, одной семьей с Косачевыми, родителями Кати, — смирился бы, нашел общий язык, — не бог весть какая это трудность, а старики они — не прижимистые, не злыдни какие, и дружбу, хлеб-соль по-семейному Макарычевы да Косачевы годами водили.
И неприметно в той размягченности и успокоенности, вошедших в него, он стал думать о том, что вот уладится все, устроится, он напишет письмо, может, вначале обычное, жив-здоров, а уж после — особое, ей, Катерине, благо первые слова уже есть, сложились в прошлый раз, он их помнит в точности, наизусть, а пока маленько подождет, — пусть разбираются, выясняют! Да и написать-то — пожелай он — не на чем и нечем: листка бумаги, огрызка карандаша не сыскать во всем бараке. И все же, не заметив когда, он мысленно начал складывать, продолжать письмо, и первая фраза легла довольно бойко и просто: «Пишу свое письмо, Катя, дальше…»
Трудно шла мысленная, непривычная работа: то, сдавалось, слова получались грубыми, резали слух, будто колотые камни, то складывались слащаво-приторно, то — вроде расплывчато, неточно, больно далеко от того, что хотелось выразить.
После, уже в усталости, сонливой слабости, фразы наплывали, выпадая из общего строя, однако Костя со странной настойчивостью повторял вот эти из них: «А сейчас, когда пишу тебе, Катя, решается моя судьба… Ну да знай — чист я, так что не беспокойся».
Было предутрие, и в бараке спали глубоким, безмятежным сном. Жиденько, тягуче просочилась первая просинь в щель неплотно прижатого к окнам рубероида, — отяжеленность пересилила, придавила голову Кости к соломенному изголовью, и он уснул.
— Значит, так, Макарычев, еще раз… Капитан Шиварев вам известен? Командир батальона? Показал: говорит, вы — ворошиловский стрелок, две проднормы от народа получали, так? В общем, сначала вы в охранении с Кутушкиным были, а после, на лесном привале, воспользовавшись бомбежкой, откололись от батальона, в плен сдались! Так?
— Не так. Докладывал… С охранением-то так, и бомбежка так, а вот в плен не было желанья… — И вдруг Костя решился, даже, будто поднятый возникшей мыслью, встал: — Да вы сами-то верите, что… ну, вот сдался, поднял руки? Верите?!
— Мне не верить, мне точно знать надо! — отрезал старший лейтенант и тоже поднялся.
Они стояли друг против друга, разделенные знакомым Косте за два предыдущих посещения столиком, простым, с кое-где облупившейся от времени краской, слева два чернильных, потечных пятна еще отсвечивали неистертым золотым отливом. Умолкнув, решив, что больше ничего не скажет, Костя глядел на фиолетовые пятна, на тяжелую мраморную подставку, тоже в крапинах чернил; в гнезде подставки — из толстого стекла чернильница. И вздрогнул, услышав голос «старшого»:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: