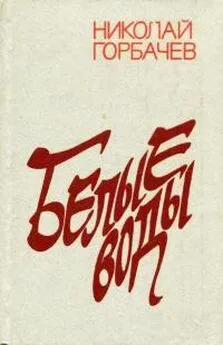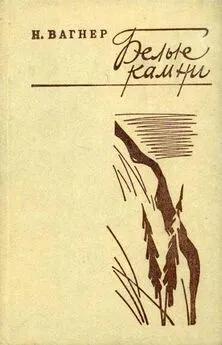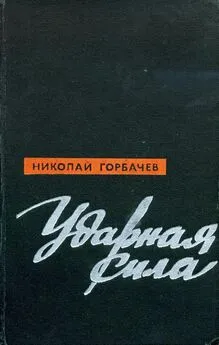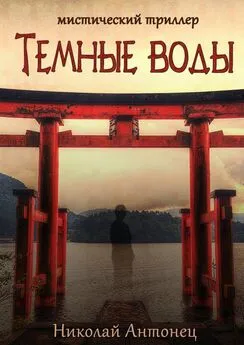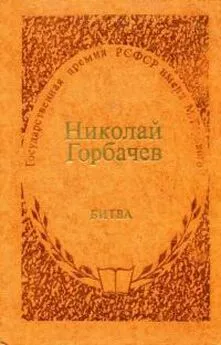Николай Горбачев - Белые воды
- Название:Белые воды
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1985
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Горбачев - Белые воды краткое содержание
Белые воды - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Закрыв окно, прошлепав босыми ногами по половицам, Евдокия Павловна улеглась и, верно, умеряя волнение, разгоряченность, прятала вздохи, и он чувствовал рядом напряженное, в дрожи, ее тело, однако лежал не шелохнувшись, тоже стиснутый до немоты, не желая выдать, что не спит. Ту беспокойность, скопившуюся и вызревшую в нем, от которой он очнулся (теперь он это в точности понимал не только по воспаленно-перечной сухости и жжению глаз), поначалу готов был отнести за счет грозы, накатившейся и обрушившейся неистовой лавиной. Теперь под раскатистые удары грома, под резиново-пружистые толчки воздуха, сотрясения половиц и кровати, каменно-слежалой постели он явственно, как бы всей кожей под влажным исподним бельем ощутил прозрение: беспокойность его, неясное тревожное состояние, в которых он захолодел и как бы растворился, были вызваны, выходит, тем разговором с Андреем Макарычевым. Теперь это отчетливо открылось, и он, еще больше обеспокоенный и пораженный выводом — чего бы, он же все сказал, и делу конец, — лежал в этом ощущении, во взъерошенности; и медленно, словно из дали выплывая, входило еще пока неясное чувство виноватости, и оттого, что оно было неопределенным, расплывчатым, чего не любил Петр Кузьмич, не терпел, ему было не по себе, было муторно. Нет, он сознавал, что это чувство сейчас вселялось в него вовсе не потому, что повел себя не так: поднялся, ушел из кабинета парторга ЦК, поставил его в неловкое положение перед людьми. Двое-трое, как помнит Петр Кузьмич, там были ему знакомые, правда, не близко; нет, не в том крылась причина — в чем-то более важном, более значимом и существенном, но пока оно не улавливалось, и потому муторность, тошнотность на душе лежали как бы реальной тяжестью.
Сейчас не было ножевой, режущей боли в сердце, которую испытал уже там, в коридоре, когда, не слушая, не воспринимая слов Андрея Макарычева, лишь весь в распыле, в мгновенном помрачении, опалившем мозг, будто там приложили огненную пластину, крикнул и не крикнул: «А ты Катерину не трожь! Не тро-оо-жь, говорю!» Боль та жила и после, когда ошпаренно вылетел на улицу, пустынными проулками, не замечая тишины, какая уже копилась перед грозой, отмахал к беленому, обшарпанному зданию техникума. Занятия, провел сухо, в напряжении, — так и не развеялся, не забылся: текучая, ноющая боль рождалась в сердце, расплывалась, нудила, не утихая. Занятиями он остался недоволен, хотя в конце вопросов было много, задержались в классе допоздна. Кати на занятиях не оказалось, и еще не зная, что бы это значило, Петр Кузьмич, однако, думал: будь она тут, не в пример другим, тотчас заметила бы, что он не в своей тарелке. И все же в самом конце, когда неуверенно, в задержке, которую сам невольно почувствовал, показал, как последовательно вводит в работу перфораторы, оказавшийся рядом Филька Бартенев, бурщик пятого участка, с узким лицом, будто сдавленным с боков, горбоносый, с черненой кожей, ровно ее круто придубили, сощурил и без того узкие щелки-глаза, настороженно спросил:
— Не хвораешь, Кузьмич? Или причудилось мне?
— Причудилось! — отсек Петр Кузьмич, краснея оттого, что оплошка его не осталась незамеченной.
Горше было ему именно оттого, что заметил его оплошку, сбивку Филька Бартенев, дурной, непутевый мужичишка, — у того за всю жизнь путем ничего не ладилось да не клеилось: то в малолетстве собака ухо разорвала, зарубина осталась, то, позднее, медведь — его выкуривали из берлоги — теранул Фильку, одёжу спустил, проборонил когтями плечо; а то, уже женатиком, по пьяному делу оказался тот на лесоскладе, начал перекатывать попусту бревна — одно скользнуло, хрястнула правая нога, срослась криво — прихрамывает Филька.
…В те очередные бои грома, когда после первого удара грохот как бы делился, раскалывался на мелкие, дробистые подголоски — сдавалось, будто по жестяной громадине листу катали металлические шары, — Петр Кузьмич слышал в груди тоскливое, тягучее щемление; оно малость убывало, притихало, когда шелестящая за окном, звеневшая по крыше лавина дождя усиливалась вослед «металлическим шарам», разбегавшимся в темени, в судорожных сполохах откатывавшимся к Ивановым белкам и там глохшим.
В такие минуты в душе его как бы взмучивало ту копившуюся тошнотность, царапавшее чувство виноватости обострялось, и он в желании и одновременно в неудовольствии сознавал: вот-вот проклюнется, откроется эта его виноватость, однако успокоения, облегчения, даже простой расслабленности ему не будет.
Где-то в сокрытом уголке души он чувствовал и другую накладку — какое-то неясное, как бы мерцающее, сверлившее буравчиком раздражение, и в зыбистой рыхлости догадывался: вызывалось оно тем, что Евдокия Павловна не спала; ему сдавалось, что она даже знала о происшедшем с ним и молчала.
А она действительно не спала. В очередном лопнувшем всполохе молнии боковым зрением отметила блеснувшие отраженным светом глаза Петра Кузьмича и, каменея, опаленно подумала: неужто вовсе не спал? Припомнилось: пришел поздно, не стал ни есть, ни пить чай, молча разделся, ополоснулся под рукомойником, долго утирался; тогда, со сна — она ждала его с работы, прикорнув на диване, сморилась, вздремнула, — его поведение расценила просто — устал с рыбалки, ночь с Гошкой Макарычевым топали домой, после на горизонт, в забой, а вечером еще эта школа опыта. Поди выдержи — не молоденький, не вьюноша ить!
Теперь она в той мысли — он, поди, вовсе не спал — ощутила мгновенную противную испарину: выходит, задрыхла без задних ног, а у него что-то стряслось, у него беда, а вовсе не то, как поняла, — устал, намаялся. И будто выдавило окончательно весь ее сон, она в мгновенной озаренности припомнила почему-то давнее, далекое — обвалы на руднике; тогда в причахлости, придавившей их городок, бабы передавали друг дружке, где вновь рухнуло; плачи их оглашали уличные порядки, будто волчьи взвой. А после самого большого обвала на седьмом горизонте Петр Кузьмич пришел домой будто с креста снятый. Сразу сел на раскладной низкий стульчик к старенькому верстаку, уставленному коробками с деревянными гвоздями, шпильками, банками с клейстером, заваленному сапожным инструментом, колодками, разными заготовками. Против обыкновения, сидел без фартука, взяв на лапку женский ботинок, вгонял в подметку, пристукивая молотком шпильки, — пучок их плотно сжимал сухими губами. Она не расспрашивала его: в «аэропланах» уже все знали, в их двор, перед самым обедом, будто ветром внесло простоволосую, в расстегнутом жакете Сорочиху из соседнего «аэроплана», бабу остроязыкую, не брезговавшую при случае загнуть в коленце и матерок; вся она была взъерошенной, точно наседка, проспавшая цыплят, синюшные от кислицы-ягоды губы ее (Сорочиха, поди, готовила, варенье) растягивались, плыли в сторону, — бухнула, как из колокола: «Люди-ии, обвал на Соколинском! Мужиков, грят, как есть всех на том, седьмом горизонте…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: