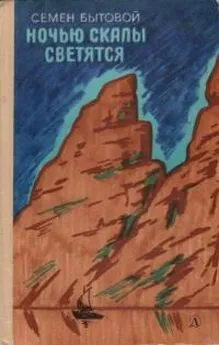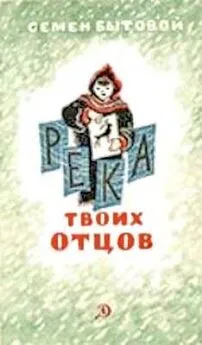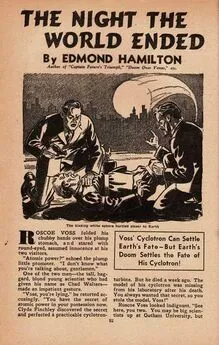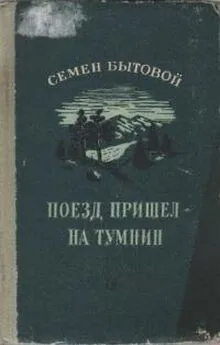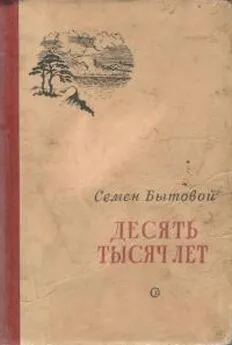Семен Бытовой - Ночью скалы светятся
- Название:Ночью скалы светятся
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Детская литература
- Год:1968
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Семен Бытовой - Ночью скалы светятся краткое содержание
Новая книга «Ночью скалы светятся», как и прежние, посвящена огромному дальневосточному краю с суровой и необыкновенно щедрой природой.
Вы встретитесь здесь с людьми самых разных профессий: моряками и летчиками, рыболовами и садоводами, строителями новых городов, врачами и воинами, охраняющими наши далекие границы.
Их судьбы различны, но есть одно, что роднит героев книги: они увлеченно и преданно заняты своим делом. Суровая природа не пугает и не сгибает тех, кто служит людям, — говорит автор, — она закаляет их, выковывает их характер. Сильные, мужественные, именно там находят они свое трудное, но настоящее счастье.
Ночью скалы светятся - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Нет, милая моя, — возразила Котова, — все, что я тебе рассказала, осталось в прошлом. Нынче и в тундре большие больницы, с чистыми светлыми палатами. А на вызовы летают на вертолетах. Так что не робей, если зашлют тебя подальше. Везде кипит жизнь, и в далекой северной тундре растут новые города и селения...
...Был уже одиннадцатый час ночи. Небо стояло над Амуром чистое, звездное. Берега то убывали, и река становилась очень широкой, то неожиданно вырастали, до того сузив ее, что теплоход, казалось, продирается сквозь тесный каменный коридор.
Мы плыли где-то около Богородского, — значит, завтра на рассвете — Николаевск-на-Амуре.
Ночью скалы светятся
То ли из-за непогоды, то ли из-за своей постоянной занятости, Василий Николаевич Таволгин со дня на день откладывал нашу поездку на мыс Крильон. Погода действительно была скверная. Небо — без единого просвета; не переставая лил дождь. Да и на море все это время крупная зыбь, так что на катере лучше не выходить. Но мне не хотелось уезжать из Южного, не побывав на Крильоне, о котором я столько был наслышан. И вот неожиданно северный ветер разорвал тучи, и Таволгин распорядился, чтобы готовили катер.
Василий Николаевич был из тех людей, с которыми всегда интересно. Внешне несколько суховатый, строгий и замкнутый, он на самом деле был очень добродушным, чутким, отличным товарищем, хотя никогда не отступал от правила: «Служба — службой, а дружба дружбой».
Он любил историю Дальнего Востока, неплохо знал ее и даже исподволь что-то писал об открытиях наших героических предков на Амуре и Тихом океане.
Пока мы шли на Крильон, погода менялась буквально на глазах. Небо почти очистилось, и море стало видно до самого горизонта.
Вглядываясь в посветлевшую даль, Таволгин сказал мечтательно:
— Может быть, как в старину, сейчас на Крильоне выстрелят из пушки или ударят в колокол.
— Это в честь чего? — удивился я.
— Как, ты ничего не знаешь?
Во второй половине дня катер пристал к узкой бухточке, где кусок отлогого берега сбегает к воде. Мы поднялись на довольно высокий мыс. Здесь, рядом с приземистой, старинного образца корабельной пушкой, висел на почерневшей от времени дубовой перекладине старый, покрытый прозеленью медный колокол.
В старину, когда еще не было морских маяков, русские матросы тремя выстрелами из пушки и колокольным звоном указывали судам, идущим в тумане или в ночной темноте, путь к берегу.
Эти реликвии напомнили нам о бессмертных подвигах русских людей, впервые сошедших на эти далекие берега нашей Родины.
Кто же именно и в каком году повесил на Крильоне колокол? С какого корабля была снята пушка?
Я подошел к колоколу, раскачал чугунный язык, ударил в толстую медь — и мыс Крильон огласился гулким, протяжным звоном.
— Вот это здо́рово! — воскликнул Таволгин. — Теперь садись, я тебе кое-что почитаю.
С этими словами он достал из планшетки толстую тетрадь в черном коленкоровом переплете и стал читать.
«Миру еще неведомы были богатейшие земли на берегах Амура и Тихого океана, когда горстка русских землепроходцев, преодолевая неимоверные лишения, отправилась в далекие походы на Восток. Смелые, мужественные люди, они на свой страх и риск, без компасов и карт, на утлых суденышках под парусами, а когда не было попутного ветра, просто на веслах, спускались по гремучим горным рекам, пересекали морские просторы с одной лишь мыслью: приискать для Отчизны новые земли.
В июне 1643 года, по приказу якутского воеводы Головина, письменный голова Василий Поярков с ватажкой в 132 человека вольницы был послан в Приамурье с наказом: «Узнавать повсеместно про сторонние реки падучие, которые в Зию-реку пали; какие люди по тем сторонним рекам живут — сидячие ль, иль кочевые; и хлеб у них и иная угода есть ли, и серебряная руда, и медная, и свинцовая на Зие-реке есть ли; и кто иноземцев в расспросе скажет, и то записывать именно... И чертеж и роспись дороге своей и волоку к Зие и Шилке-реке и падучим в них рекам и угодьям прислать в Якутский острог вместе с ясачною казною; и чертеж и роспись прислать всему за свею Васильевою рукою...»
До поздней осени плыли люди Пояркова на дощатых лодках из реки в реку, сквозь дикую, нехоженую тайгу на восток. Когда пришла зима, вьюжная, с лютыми морозами, остановились перед Становым хребтом.
Многие в отряде дрогнули, испугались, повернули обратно. Но оставшиеся верными 90 человек вольных людей не покинули Пояркова. С ними он и перевалил по глубокому снегу на лыжах через Становой хребет и к весне 1664 года вышел к верховьям Амура.
Здесь, на гористом берегу реки, пока шел лед, построили новые лодки и в конце мая двинулись вниз по быстрому течению. Перед русскими смельчаками с каждым днем все шире открывался безлюдный край, и Поярков по достоинству оценил его. Какой простор для хлебопашца! Какое обилие рыбы в Амуре и его притоках! Сколько пушного зверя в тайге, в том числе и такого редкостного, как соболь! Богатый край; такого сроду не видывали! Вот где селиться русским людям, вот где жизнь строить!
А когда однажды в темную дождливую ночь землепроходцы увидели белые, озаренные каким-то таинственным сиянием скалы, от которых Амур был виден на добрый десяток верст, вовсе пришли в восторг. В то время они еще не знали, почему скалы светятся, однако Поярков в своей «скаске» писал о них якутскому воеводе, как о великом чуде, будто бы посланном самим богом...»
«Воздвигнув по пути остроги, — читал далее Таволгин, — Поярков со своей поредевшей ватажкой прошел за лето весь Амур и к осени 1644 года достиг устья. А дальше было студеное море, скрытое туманами.
Есть ли за тем хмурым морем земля? А если есть, то обитаема ли?
Ответить на этот вопрос мог сам Поярков, продолжив путь. Но за время похода добрая половина отряда погибла, а оставшиеся в живых вконец истощились, болели цингой и нуждались в отдыхе.
Это привело Пояркова к мысли обосноваться на зиму в устье Амура.

Объявив местным жителям-гилякам, что отныне эта земля принадлежит России, Поярков собрал с них небольшой ясак: 12 сороков соболей и 16 собольих шуб, и стал обживать новое место. Нужно сказать, что гиляки охотно делились с лоча, как они называли русских, своими припасами, помогали им строить юрты.
От гиляков же Поярков впервые узнал о каком-то острове, который лежит близко против лимана. Речь, как предполагают, шла о Сахалине, куда материковые гиляки ни разу не ходили, а слышать — слышали. Рассказы туземцев возбудили у Пояркова желание самому идти проведать ту близкую землю за туманным морем.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: