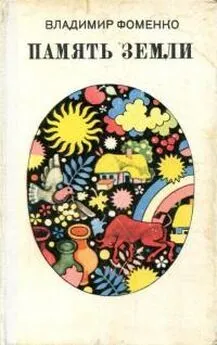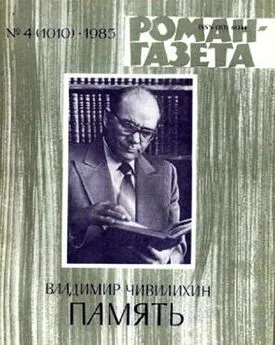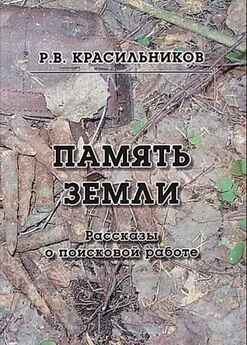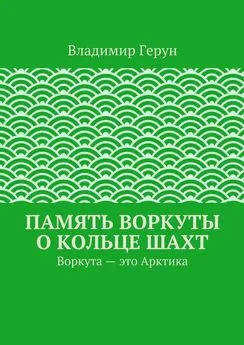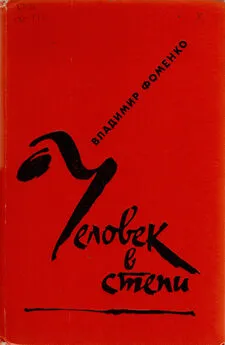Владимир Фоменко - Память земли
- Название:Память земли
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1978
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Фоменко - Память земли краткое содержание
Основные сюжетные линии произведения и судьбы его персонажей — Любы Фрянсковой, Настасьи Щепетковой, Голубова, Конкина, Голикова, Орлова и других — определены необходимостью переселения на новые земли донских станиц и хуторов, расположенных на территории будущего Цимлянского моря.
Резкий перелом в привычном, устоявшемся укладе бытия обнажает истинную сущность многих человеческих характеров, от рядового колхозника до руководителя района. Именно они во всем многообразии натур, в их отношении к великим свершениям современности находятся в центре внимания автора.
Память земли - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Только как же воздвигать лучезарный дворец, подкупая строителей подачками? Да для этого ли в семнадцатом брали Зимний? Для этого ли палила «Аврора»?
— Не отпущу! — крикнул он, прыгнув по пояс в воду, ухватясь за борта двух баркасов. — Не отцеплюсь. Топите! А ну, сельисполкомовцы, выходи из-за спин, начинай.
Разлив, освещенный далекими сполохами гидроузла, выгибал бока, искрился то рябью, то тяжелыми, будто плугом напаханными бороздами, явственно звенел. Казалось, плескали, выкатывались наверх рыбьи спинные плавники, хвосты, и возбужденная толпа не знала, отрывать ли, вязать этого сумасшедшего или действительно топить его к черту. Он не отпускал борта лодок, и, хотя стоял по грудь в ледяной воде, горло его пересыхало, он хватал ртом эту воду, выкрикивал, что мужчины-сеяльщики обязаны сажать виноградник ночью. Днями сажать будет прочее население Кореновского и Червленова. Поголовно. Останется на фермах лишь по одной доярке на сорок коров. На свинарнях, воловнях, в кошарах — по одному человеку. Остальные — к чубукам. Сельсовет, все конторы — на замки. Школы и то на замки.
Глядя снизу вверх, выйдя по пряжку командирского потрепанного ремня, спросил:
— Что получается?.. Школы закрыть, пацанят в лямку, а куда нас?.. Да отомкните наконец, товарищи, — заорал он, — запертые свои сердца! Да разве ж на этой самой земле вы с Матвеем Щепетковым так уж часто пугались, дрожали? Свержение атаманов было лотереей. Но вы шли на атаманов; вас не пугала безвестность. Разве не пели вы «Нас еще судьбы безвестные ждут»?! А «мессершмитты», «фоккевульфы», танки Клейста пугали нас, заслоняли нам, гвардейцам, дорогу к победе? Неужели ж сегодня заслонит нам горизонты вяленый задрипанный судак на бечевке?!
Люди молчали, а Конкин, поняв, что выложил главное, что задел этим главным и теперь имеет право добавлять все, вышел на берег, скомандовал:
— Управиться быстро! В сэкономленные дни взять себе технику гидроузла, оросить личные усадьбы. Залить их от пуза. Хоть по горло.
Глава пятнадцатая
Крылья офицерского седла мягко поскрипывали под коленями Щепетковой. Жеребец зябко передергивал в рассветном холодке кожей, со вкусом втягивал запах начавшейся степи. Хутор за спиною был пуст, словно выдут: жители, собранные Конкиным под гребло, еще ночью выехали на посадку чубуков, и Щепеткова, проверив, что́ на оголенных фермах, отправлялась следом.
Ни привычной срочности, ни привычного кучера — инвалида Петра Евсеича, ни высокой председательской тачанки, окованной надраенной медью, запряженной парою одномастных широких жеребцов, играющих по сторонам щегольского дышла. Вместо всего — один из прежней пары жеребец, собственноручно напоенный, собственноручно подседланный; и это было свободой, разрешало думать о чем угодно своем, позволяло безо всякого дела, а просто для удовольствия разглядывать окружающее.
Степь, едва начавшая одеваться зеленью, просыпалась, у дороги сверкали молодые травины, отпотелые за ночь, покрытые каплями. Сколько весен ездила здесь Щепеткова, а за недосугом никогда не вглядывалась в такую мелочь, как сверкающие капли. Теперь смотрела… Ветер, еще не прогретый и только-только при вставшем уже солнце берущий силу, сушил росу, нанизанную на зеленые шильца; копыта ступали мягко по земляной песчановатой обочине, не перебивали звона жаворонков, сусличьих пробужденных свистов. Усмехнувшись, Настасья Семеновна перегнулась с седла, сорвала стебель прошлогоднего ожившего молочая, проколдовала: «Коза, коза, дай молока!» — и на обрыве стебля выступила крутая белая капля, и все вокруг как бы омылось ею, стало оборачиваться совсем таким, как бывало в ребячестве. Суслик с огромным живым глазом, с гладкой, точно облитой головкой; рдяные яблоки навоза, перееханные колесом; два жука, деловито толкающие по дороге шарик, сделанный ими, вдесятеро больший, чем они сами… Один жук толкает передними ногами, другой идет головой вниз, вертит на себя шарик задними, а надо всем этим высится тот же, что в детстве, Акатнов курган.
Правда, не совсем тот. Всегда маячила на Акатнове каменная баба, годами смотрела на восход, а прошлым летом забрали ее в музей, заместо нее водрузили угольник — тригонометрический пункт…
Еще маленькой знала Настя диковинное об этом кургане: сидя на материнских коленях среди вечерующих на улице соседок, слышала, что караулят это место тени старых оружных воинов, что начинается под Акатновом золотая цепь, идет аж до Зеленкова ерика. Одни уверяли: закапывал эту цепь, кованную из боярских червонцев, Степан Разин; другие — что далеко до Разина схоронил ее хазарский царь. В разные времена — и прежде, и в памяти Настасьи — рылись в кургане охотники разбогатеть, ставили даже бревенчатые козлы, чтоб вытягивать на вожжах бадьи с землей, но с годами все затянулось, затравенело — и курган, забыв царапины, стоял равнобокий, четкий, как терриконы под городом Новошахтинском, только был не черный, а белесый от мохнатой, цинковой на солнце полыни, подрагивал на ветру этой полынью.
Раздолье!.. Дыши, гляди, куда желаешь. Никакой пакости, ни одного человека кругом.
— Сука ты, Настька, — сказала Щепеткова, снова убеждаясь, что противно ей с людьми, безынтересны успехи хутора.
А собственно, о каких успехах разговор? Взять нонешний выезд на чубуки. Не выезд, а генеральная ассамблея: ночь напролет дебатировались!.. Глухих бабок — Фрянскову, столетнюю Песковацкову — и тех Конкин уговаривал: дескать, высказывайтесь, какое у вас моральное отношение к выезду?.. Ну и поперли высказываться. Ведь, как к водке, поприучивались к разговорам, каждый вечер слушают доцентов, понавезенных Голубовым, дебатируют с ними. Молодые, те и вовсе ликуются. Играют в спектаклях разгром суховея, ездят в Шахты, в Новочеркасск, взяли приз в Ростове на смотре театров. Работа ж побоку — значит, самое время клоунам.
Но что ей до тех дел? Ничего ей, кроме Ильи Андреевича, не надо, плевать ей, что рушится все привычное. Даже весело от грохота!..
Она вглядывается в дальние, желтые среди равнины выгрызы — карьер, где сейчас он, Илья, и сердце бухает — такое душное, жгущее, хоть выдергивай руками на ветер… Сколько лет была спокойной, думала — кончено отмеренное ей, а оно вот как!! И не поцеловал он еще, вахлак, ни разу, нежного слова из себя не выдавил, а она, бесстыжая, рвется к нему сердцем, и жутко ей, и всюду чудятся дурные приметы… Летала этой ночью вокруг ее лампы бабочка-ночевница. Все рвалась, рвалась на горячее стекло, сыпала, дура, с себя пыльцу, а потом, почернелая, напитанная керосином, лежала в керосинной, подставленной под лампу тарелке.
Обгори так же Настасья — разве кто запечалится? Обрадуются. Особенно Тимур с Раиской. Расстарались какие-то из соседушек, послали Тимке письмо с намеками на квартиранта, и в ответ прибыло Настасье сыново указание… Тимур Алексеевич — сколзалка блестит под носом — указывает матери, как жить. В голосок указывает! Заодно ставит крест на мать. «Ты, пишет, женщина старая. Бросай это дело».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: