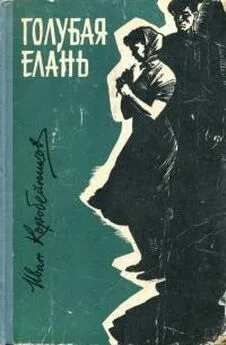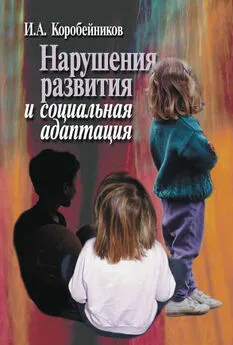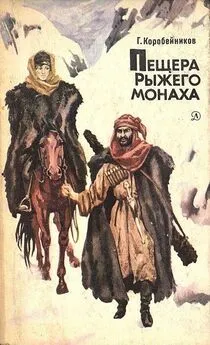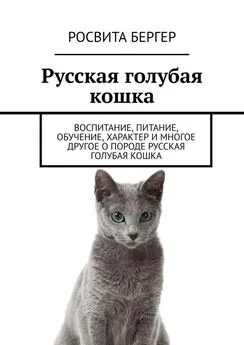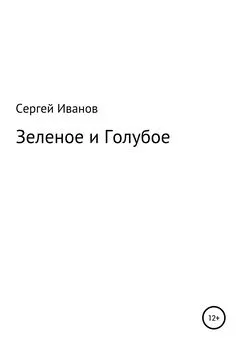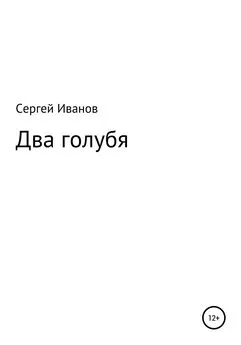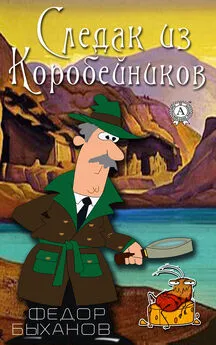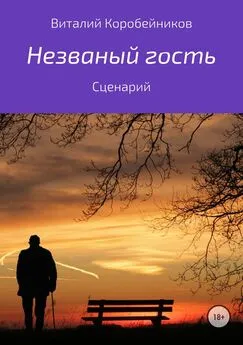Иван Коробейников - Голубая Елань
- Название:Голубая Елань
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Южно-Уральское книжное издательство
- Год:1964
- Город:Челябинск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Коробейников - Голубая Елань краткое содержание
Литературные произведения И. Т. Коробейникова публиковались в различных областных и центральных газетах.
И. Т. Коробейников, живя в сельской местности, был участником борьбы за строительство новой жизни в период коллективизации сельского хозяйства. Это и дало ему материал для создания романа «Голубая Елань».
Без излишней торопливости, с точным описанием деталей труда и быта, автор показывает всю сложность тогдашней обстановки в советской деревне.
В центре романа — широкие массы трудового крестьянства.
Писатель серьезно, уважительно относится к душевному миру своих героев, которых объединяет активность, целеустремленность, высота нравственного идеала и жажда правды и справедливости.
Диалог, живой и темпераментный, хороший юмор, умение нарисовать портрет одним-двумя штрихами, пейзаж Зауралья, отличное знание жизни уральской деревни конца двадцатых годов — все это помогло автору создать книгу о неповторимом прошлом с позиций сегодняшнего дня.
Голубая Елань - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Слезы обиды на свою беспомощность, слезы тревоги и радости за сына смочили ее стянутое морщинками доброе лицо, когда наконец послышались знакомые шаги.
— Мама!
— Ваня!
Они обнялись.
— Ты чего здесь? — придерживая мать, с тревогой спросил Ваня. — Слыхал я, хворала опять.
— Хворала. Чего нам, старухам, больше делать, как не хворать. Голова у меня, сынок, опять шибко болела. Теперь вот полегче. А ты приехал — вовсе бегом забегаю, — невесело шутила Орина, вдыхая знакомый по прежним приездам Вани и поэтому ставший уже родным, как все связанное с сыном, запах бензинового перегара.
— Пойдем. Все простыло, поди, у меня в пече-то.
Они зашли в избу. На столе появились любимые Ваней заварные калачи, душистые смородинные пироги, наливные шаньги, топленое молоко. В другое время Ваня так бы и набросился на все эти лакомства, но теперь, после пережитых волнений, он едва дотронулся до еды.
— Ждала я тебя, Ваня, и даже не ума, что ты с таким грохотом прикатишь, — говорила Орина, лаская сына глазами. — Слышу даве: гремит. Ну, думаю, опять тучка накатилась. Не дай бог, намочит тебя дорогой. А тут народ зашумел. Бегут все. Испужалась я. Ох, думаю, беда какая-то. Бросилась из избы, до тополя кое-как добежала, а тут и подкосились мои ноженьки. Бежит мимо Ганюшка Антипин, спросила его. «Куда, — говорю, — бегут все? Уж не горит ли где грехом?» А он: «Да рази, — говорит, — ты, тетка Орина, не знаешь, что Ваня твой трактор пригнал. Не ждешь разве?» Господи! Да как же не жду! Глазоньки все проглядела. От окон не отхожу. «Пошто же, — говорю, — ревет-то он так, трактор этот?» Пытаю так, а Ганюшки-то уж глядь-поглядь — и след простыл. Так вот и осталась я под тополем… — Орина не удержалась, снова смахнула непрошеную слезу. — Не смотри ты на меня, дуру старую. Известно — глаза-то наши, бабьи, на мокром месте.
Видя, что Ваня не ест, Орина еще больше забеспокоилась.
— Да уж здоров ли ты? Ну, чисто ничего не ешь. — Она положила на голову сына свою мягкую легкую руку. На Ваню пахнуло с детства знакомым запахом хмельной закваски и разнотравья, и он, на какое-то мгновение, касаясь материнской руки щекой, неловко двинулся из-за стола.
— Да что ты, мама, здоров я… Просто есть не хочу. Нас в МТС во как накормили. Да еще на дорогу наклали. — Он сделал неопределенное движение руками и сам улыбнулся своей выдумке. — Спасибо, мама…
— Ну и слава богу. А и заболеть тоже не диво. Вон он как ревет. Терпеть надо головушке-то.
Орина принялась убирать со стола. Ниточка разговора оборвалась. Ваня нехотя взялся за кепку.
— Ну, мама, я пойду с ребятами повидаюсь.
— Лиза поди скоро придет, — не зная чем удержать сына, сказала Орина и тут же, понимая, что это некстати, добавила: — А Андрея-то Петровича ты видел?
— Видел.
Орина вздохнула.
— Ну иди…
Над Застойным стояла лунная июльская ночь. Минуя тополь, который еще несколько минут тому назад светился зеленью, слегка тронутой алым отблеском зари, а теперь был аспидно-черным в тени и серебристо мерцающий в потоках лунного света, Ваня вышел на Крутояр. Внизу лежало парное озеро Кочердыш. По ту сторону его над падью дыбились молочные клубы тумана. Казалось, все облака, что днем паслись в поднебесье, пришли сюда на ночлег, как кони в загон. Вдруг рядом, казалось, под самыми Ваниными ногами, тишину ночи прорезал голос перепелки:
— Спать пора! Спать пора!
Чудная ты, перепелка! Да разве можно уснуть в такую ночь. Вон и дергач не спит, все пилит и пилит свое дуплистое бревно Наперегонки трещат кузнечики. А вот: шлеп… шлеп… шлеп… — прыгает лягушонок, прислушается и опять прыгнет. И лунный свет не спит, все перебирает и перебирает тополиные листья. Если прислушаться, — можно услышать, как с легким шорохом, поскрипывая, растет трава. Да, ведь и ты, перепелка, не спишь в эти минуты, когда и земля и небо во власти вечного обновления.
Ваня расстегнул ворот рубахи и вздохнул полной грудью!
В эту ночь, пробродив до рассвета по мокрой траве Городища, он сознался себе, что никогда не переставал любить свою Стешу. И любовь эта росла вместе с ним, мужала и крепла.
Возвращаясь домой, Ваня завернул к пожарному сараю, где под охраной двух пожарников стоял трактор. В сарае шел оживленный разговор.
— Эх ты, непонятный какой! — слышался Колькин голос. — Я же тебе говорю. Вот эта штуковина скорость дает. Туда-сюда вороти — и вот тебе как надо побежит трактор.
Кто-то цедил скептически:
— Бегу-у-ун то-о-же…
Голоса переплелись в горячей перепалке. Сквозь нее цедился тенорок отца Павла:
— Колесница фараона, сиречь слуга сатаны. Убо рече пророк господний Иоанн Богослов: явился человек черный на коне черном и имя ему шестьсот шестьдесят шесть — имя антихриста.
— Не трепли, батя! — Колька ударил матерком. — Не морочь голову, дурачков не найдешь. Я сам управлял им чуть не до самого Грязного Мостика.
Ваня улыбнулся, прощая Кольке его бахвальство.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
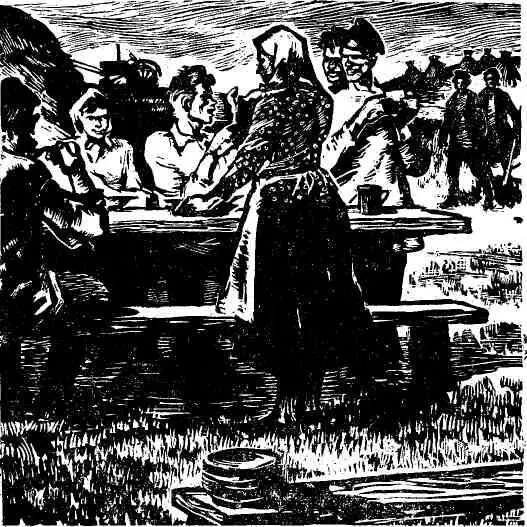
1
На ильинскую пятницу, под молодой месяц, Максим Базанов перешел в новый дом.
Солнце клонилось к закату, когда он с Марфой на двух телегах, груженных домашним скарбом, остановился у высокого крыльца, крытого на два ската.
— Господи! На такое верхотурье да с ведрами — все внутренности надорвешь, — сказала Марфа, неловко слезая с телеги. Ей мешал котенок, которого она держала под фартуком, чтоб он не видел дороги и не убежал на «старину».
«Старуха совсем стала, — с горечью подумал Максим. — А давно ли на ходу спрыгивала с телеги…».
Отмахиваясь от той унизительной беспомощности, которая так часто за последнее время приходила к нему, Максим посмотрел кругом.
Двор только намечался.
Вправо на отшибе стояла конюшня, горбясь новыми стропилами. Максим сам рубил ее в междупарье [30] Междупарье — время между первой и второй пахотой парового клина.
, но покрыть не успел. От конюшни тянулись поднятые на разную высоту звенья заплота, в конце которого на углу должен был встать амбар, перевезенный от старого дома и теперь раскатанный на четыре стороны. Темные бревна уже успели прорасти травой, длинные стебли которой, белесые у корня и бледно-зеленые на концах, вяло лежали на них. Вдоль дороги, со стороны улицы, шагали три столба: два близко один к другому — для калитки, третий поодаль — для больших ворот. Глядя на этот одинокий столб, Максим вспомнил сына. «Эх, Кольша, Кольша! — вздохнул он. — Оторвался ты. Напрочь оторвался. Не ко времю… Только жить начали…».
Интервал:
Закладка: