Илья Девин - Трава-мурава
- Название:Трава-мурава
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советская Россия
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Илья Девин - Трава-мурава краткое содержание
Национально-самобытные характеры современников, задушевные картины природы, яркие этнографические подробности делают книгу И. Девина интересной для широкого круга читателей.
Трава-мурава - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И Проска сказала:
— Пойдем, ладно, так и быть…
И когда они проходили мимо дома Ивана Шанявого, то на них из-под ворот злобно лаяла собака, а в доме пел свою песню Иван:
— Ой, да Семенова-а Ульяна-а-а!..
Ефимиха в просторных сапогах шла за Проской и думала так: вот, ходит где-то, шепчется, ворожит, в колхозе дня не рабатывала, и все сходит ей с рук… И как это так и почему? Видать, кто-то помогает Проске, но кто?..
Но не Проскина тайна занимала сейчас Ефимиху, а поразившее ее открытие: у Проски — своя, непонятная ей, Ефимихе, жизнь, а у зятя, «полномочного Щетихина», — своя жизнь, своя тайна, а ее жизнь, жизнь колхозницы, матери и жены, Ефимихи, без никаких тайн и потому такая тяжелая, полная трудов и душевной заботы. И некуда Ефимихе спрятаться от этих забот, потому что нет такой вот вечерней тайны, как у Проски. Одна у нее, Ефимихи, защита — широкая костлявая спина Ефима, а больше ничего… Но ведь не о себе дума у Ефимихи, не о себе, а о Лизке. Вот бросит Проска свои покры на стол и начнет шептать… Но что может нашептать Проска на Лизку, на «полномочного Щетихина»? Какой-то, говорят, скандал был после пасхи, начальство приезжало, разбиралось, вроде бы еще говорят, что Проску вызывали в сельсовет по настоянию самого «полномочного»! Ой-ей, а как нашепчет Проска какую беду на зятя, а что тогда с Лизкой-то будет?! Ой-е!..
— Слушай-ко, Парасковья, — говорит Ефимиха в спину бесшумно и мягко шагающей впереди Проске. — Слушай-ко, поздно уж, пожалуй, сегодня к тебе-то идти, затруднять тебя…
— Да уж чего там, раз идем, недалеко уж…
— Да нет, знаешь, как-то не так, — лепечет Ефимиха смущенно. — Може, завтра зайду лучше…
Помолчав, Проска сердито бросает:
— Ну, как знаешь, — и в один миг исчезает, как будто сливается с теплой, дышащей чернотой весенней ночи.
Ефимиха постояла, с удивлением вглядываясь вслед исчезнувшей Проске, и, прошептав свое:
— Ой-е! — пошла обратно.
Правда, какая тревожная непонятная ночь, как будто кто-то смотрит на тебя из темноты, следит, ждет чего-то, а чего?.. Из-под ворот Ивана Шанявого опять лает собака, но тут же раздается в темноте и голосок самого Ивана:
— Взы! Взы!..
Вот ведь дурак! Нет чтобы успокоить собаку, так он еще и уськает!
— Вот я тебе взыкну! — сердится Ефимиха, и Шанявай узнает ее.
— А, соседка! А я думал, воры лезут… Ну, пошел! — кричит он на собаку и топает ногой.
Потом стоит, привалясь спиной к воротам, чего-то пьяно бормочет, и когда уж Ефимиха опять держится за крылечный столбик и глядит: не видно ли где Лизки? — раздается гундосый, тонкий голос Ивана. Он поет все ту же свою, одну на всю жизнь песню: «Ой, да Семенова-а Ульяна!..»
А какая теплая, какая черная весенняя ночь над Уранью!..
Глава десятая
В жизни, видно, не бывает так, чтобы в одно время — все счастливы, в другое — все несчастливы. Нет, не бывает такого времени, когда все поют и веселятся и радость не умещается в их сердцах. Не бывает и такого, когда все плачут, горюют, печалятся и жить не хотят.
Не бывает и так, скажем, чтобы все время только день или ночь. Не бывает также, чтобы все люди на земле имели одинаковый рост, одинаковые мысли, одинаковые чувства. И каждый человек уродится наособицу, на свой лад, и все у него свое: и характер, и лицо, и желания, и чего ни возьми другое — свое тоже. Вот ведь как у людей. И в Урани тоже так. Жизнь вроде бы у всех одинакова, и работа одна, и радость, и нужда, а вот поди ж ты!.. Да что про людей говорить, что они разные! Взять хотя бы Цямкаиху, обыкновенную ураньскую старуху. Еще вчера она была Цямкаиха, не видевшая за свою жизнь Саранска, а теперь вот она видит этот чудный город и полна восхищения, о котором вчера и не предполагала совсем. Вот ведь как бывает!.. А людей-то сколько… Да тут немудрено заблудиться, потеряться совсем, как вот тридцать с лишком лет назад потерялся ее маленький Алешенька, — Цямка, с испугом и удивлением ходя по Саранску за Аней, нет-нет да и вспомнит Алешеньку, и кажется старухе, что пропажа Алешеньки теперь ей понятна. Вот они какие, города!.. А говорят, что еще больше и чудней есть — Казань.
— Ну, Казань! — смеется Аня. — Есть еще Москва, Ленинград!
Конечно, слышать-то Цямкаиха слышала про Москву и Ленинград — обо всем ведь люди говорят, да чудилось-представлялось что-то вроде районного городка Сенгеляй, ну, может, и побольше, но чтобы эки чудеса!..
— Ты гляди, а тут-то чего тако? «Мос… мог…» — силится прочитать Цямкаиха.
Аня смеется.
— Это афиша. — И читает: — «Мосгастрольбюро. Цирковое представление… Иллюзионист Буш…»
— А из ушей-то у него дым валит, это почто?
— А вот это и есть иллюзионист. Волшебник, иначе говоря.
— Эки страсти, — вздыхает Цямкаиха, с почтением оглядываясь на афишу. — Бюро-о…
Если Цямкаиха удивлялась в Саранске тому, чему не только не удивлялись Аня и Елена Васильевна, но и не обращали на это внимания: дома, магазины, люди, машины, афиши и иллюзионисты, то старая Цямка, напротив, не только не удивлялась, но и считала за что-то обычное и нормальное то, чему изумлялись и втайне ужасались Аня и Елена Васильевна, — и это был калека Петр Иванович Пресняков, муж Елены Васильевны и отец Ани… Со своими дикими, нелепыми «картофельными», как называла Елена Васильевна, затеями.
И то, что не понимала Елена Васильевна, то старая Цямка поняла с полуслова обо всех этих опытах и затеях Петра Ивановича. Нет, она даже не вдавалась в технологию этих опытов, но сердцем согласилась с Петром Ивановичем в том, что это дело полезное и важное. Правда, она поняла по-своему, она поняла так: сушеную картошку можно хранить долго, и год, и два, и та не испортится, и если случится голод, если случится опять эта страшная человеческая беда, эта сушеная картошка, над которой бьется Петр Иванович, спасет людей. Она знала, что такое голод, и жажда сделать «запасы на черный день» томила ее еще с того давнего страшного голодного времени, когда Цямка была девушкой. И она хорошо знала, что все деревенские бабы, мало-мальски заботливые и не балаболки, стараются тайно от семьи чего-нибудь припрятать «на черный день», и вот от того, что это делается, хоть сухарь, хоть горсть муки насоберется в отчаянную пору, вот от чего люди не вымирают поголовно в деревнях и в самый отчаянный голод. А теперь, после войны, этот страх перед возможным «черным днем» опять точит бабьи души, опять точит, особенно у кого детишки есть малые, и незаметными щепотками отрывается, прячется подальше — а вдруг!.. Нет, Цямка очень хорошо понимает Петра Ивановича. И когда он рассказывает ей о тех своих голодных фантазиях, которые он претерпел за время войны: фронт, партизанский отряд, попавший в окружение, опять фронт, и как одолела его еще там, на фронте, в отряде, неотвязная эта мечта о производственной сушке картошки, — когда Петр Иванович рассказывает ей это, стараясь подыскать слова проще, попонятней, то Цямка понимает его с полуслова и, засовывая выбившиеся белые волосы под платок, согласно кивает:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
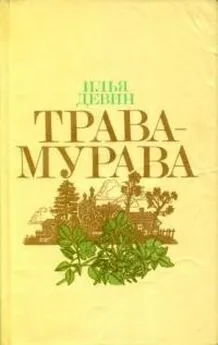


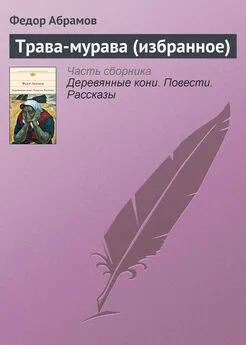

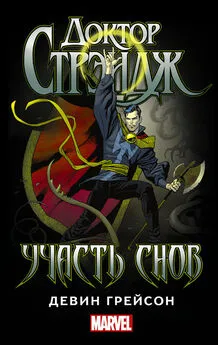
![Девин Мэдсон - Мы оседлаем бурю [litres]](/books/1147256/devin-medson-my-osedlaem-buryu-litres.webp)

