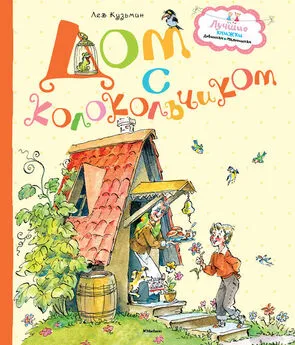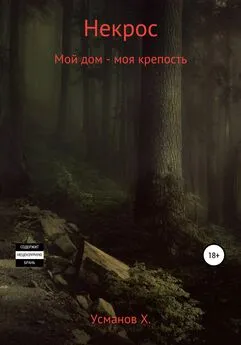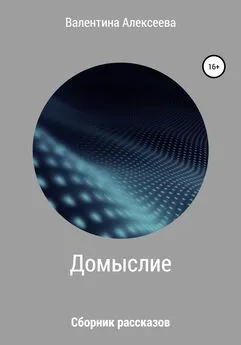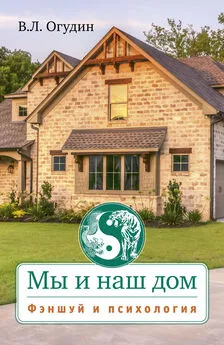Валентин Кузьмин - Мой дом — не крепость
- Название:Мой дом — не крепость
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1980
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валентин Кузьмин - Мой дом — не крепость краткое содержание
«Мой дом — не крепость» — книга об «отцах и детях» нашей эпохи, о жильцах одного дома, связанных общей работой, семейными узами, дружбой, о знакомых и вовсе незнакомых друг другу людях, о взаимоотношениях между ними, подчас нелегких и сложных, о том, что мешает лучше понять близких, соседей, друзей и врагов, самого себя, открыть сердца и двери, в которые так трудно иногда достучаться.
Мой дом — не крепость - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
У меня есть свой мир, и я не хочу менять его ни на что другое!..
Я громко всхлипнул, испугался и стал торопливо вытирать глаза.
Вышла Татьяна Генриховна.
— Почему ты здесь стоишь? — строго спросила она.
Я издал нечленораздельный звук.
— В первый же раз опаздываешь, — сказала она недовольно. — Ступай в класс.
Когда я вошел, все лица слились в радужные движущиеся круги, как на электронной заставке цветного телевидения.
— Пупсик, — басом сказал кто-то на задней парте.
Надолго утвердилось за мной уничижительное, обидное прозвище.
Плохо помню теперь, как прошел остаток дня. О чем-то спрашивала Татьяна Генриховна. Я машинально отвечал и, кажется, правильно, но внутри у меня все было перевернуто и пусто, как будто наглотался слабительного.
Ребята меня не съели, хотя не обошлось без традиционных розыгрышей с отрыванием пуговиц, щелчков, подножек и насмешливых реплик, то есть обычного набора бурсацких штучек, которые переживут не одно поколение новичков, впервые попадающих в школу.
Впрочем, обо мне скоро забыли, и до конца занятий я пребывал в странном оцепенении.
Ночью мне снился дурацкий сон: по белой, как вата, пустыне за мной гнался разъяренный, брызжущий слюною верблюд. Я просыпался в холодном поту, ворочался, а когда вновь впадал в забытье, погоня возобновлялась. Ноги, чужие, неподъемные, как пудовые гири, заплетались, вязли в песке. Я слышал за спиной жаркое, влажное дыхание верблюда и в самый последний момент стряхивал с себя кошмар, когда тяжелое копыто вот-вот должно было переломить мне позвоночник…
Прошла неделя. Я стал успокаиваться, постепенно обнаруживая, что вовсе не так уж плох, особенно если дело касается знаний и умения соображать. В тетради, заменявшей дневник (печатных дневников тогда не выпускали), у меня не было иных отметок, кроме многочисленных «охов» («очень хорошо»), важно таращивших круглое очко первой буквы, выведенной твердой рукой Татьяны Генриховны. «Х» всегда было поменьше, с коротеньким бледным хвостиком. Помню еще, как, услыхав вопрос учительницы, обращенный к классу, я молниеносно вскидывал вверх руку, всем своим видом показывая, что могу на него ответить лучше и быстрее других.
Татьяна Генриховна, человек, как я теперь понимаю, твердокаменных патриархальных взглядов, моментально изменила свое ко мне отношение и произвела в любимчики. Никому отныне не позволялось вышучивать мою особу в ее присутствии. Я был почти счастлив, не подозревая, как непрочно и опасно новое положение.
Взрыв назревал медленно, неотвратимо.
Ни учительница, ни тем более я сам, упоенный незнакомым ощущением первенства, не замечали его подспудного тока. Так осажденный в неприступной крепости, располагающей необходимыми средствами для длительной обороны, находится в беспечном неведении в те грозные часы, когда под ее бастионы ведется подкоп.
Последней каплей было избрание меня старостой, совершившееся по воле нашей немки, как за глаза называли ее ребята, и вручение мне «черного списка», придуманного ею по образу и подобию печальной памяти гимназического кондуита.
Каждое замечание Татьяны Генриховны по адресу любого маленького нарушителя той мертвой тишины, которой она требовала от нас на своих уроках, я должен был в клеточке напротив фамилии провинившегося отмечать точкой. В субботу рекордсмены по числу полученных замечаний уныло собирали портфели и отправлялись домой за родителями.
Мне позволялось ставить карающие точки и по собственному разумению, что создавало возможность спекулятивного превышения власти. Я не замедлил ею воспользоваться.
— Пупик (сокращенное от «Пупсик»), сотри мне точку! Ну что тебе стоит?..
— Еще раз скажешь «Пупик» — две лишних поставлю.
— Клянусь, не буду! Только сотри… отец меня выпорет.
— Посмотрим.
Я наслаждался неизведанным ранее чувством силы и превосходства. Я мог получать лучшие роли в мальчишеских играх на переменках, стоило мне захотеть, и к моим ногам складывались ребячьи сокровища, начиная от свистулек, вырезанных из орешника, и кончая полным комплектом медных пуговиц-ушек, игрой в которые мы увлекались тогда, зачитываясь катаевским «Парусом».
Не могу сказать, что я совсем не понимал неприглядности своего поведения. Какой-то внутренний голос восставал, требовал остановиться, но я упорно заглушал его и продолжал царствовать.
Может, я слишком подробен?..
Наверное, да.
Но это можно понять: никогда, ни до, ни после, не случалось в моей судьбе более крутых переломов. Юность и зрелость были долгим, мучительным вытравливанием проклятой робости, сознания собственной ущербности и в то же время повышенного самомнения и прочих комплексов.
Только фронт помог мне во многом стать другим, хотя растерянный Пупсик, который ревел перед классной дверью, навсегда остался.
Скажу по секрету: я не хотел бы проститься с ним окончательно.
Вот и пойми! То, что доставляло когда-то радость, может оказаться бесповоротно забытым, а то, что засело в душе колючей занозой, — дорогим и желанным. Видимо, так и должно быть: фанфары большей частью фальшивят. Страдание, а не радость создает человека…
Весной, когда открылись луга и снова оделись белой кипенью ландышей, немка затеяла прогулку всем классом. Мы притащили с собой бутерброды и, возбужденные солнцем, чистым звенящим воздухом, высыпали с парома, как резвящиеся галчата.
Пестрый плат майского луга исходил ароматами трав и цветов, умытые росой березы, пронизанные парным теплом, разбросали в синеву яркую зелень первой листвы: у самой Оки неровным частоколом рыжели стволы краснотала.
Опьяняющее чувство свободы, простора, — возня, крики, озорные глаза мальчишек!
В тот день жизнь дала мне жестокий урок.
После завтрака девочки уселись на поляне плести венки из ландышей, а мы, перевалив через холм, завели нескончаемую игру в казаки-разбойники, изобретенную еще в незапамятные времена.
Я заметил, как трое ребят, самых крепких физически и самых отпетых, подозрительно перешептываются, бросая в мою сторону косые взгляды.
Витька Клименко — кумир наших девчонок, драчун и похабник. Не проходило дня, чтобы он не являлся в класс с рассеченной губой или подбитым глазом. Шурик Попович — маленькая ехидная зануда с птичьим носиком, способная на всякие гадости. И Жорка Могилевский — полная противоположность своей фамилии — дурашливый толстяк, зубрила и скупердяй, у которого зимой снега не выпросишь. Учился он хорошо, потому что был жаден и ничего не хотел уступать другим. Меня люто ненавидел: то, что я схватывал на лету, он долбил по нескольку часов кряду, даже на уроках беззвучно шевеля губами.
Когда начались «казаки-разбойники», троица испарилась. Никто ее исчезновения не заметил.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: