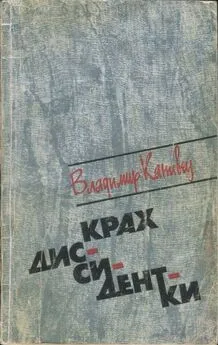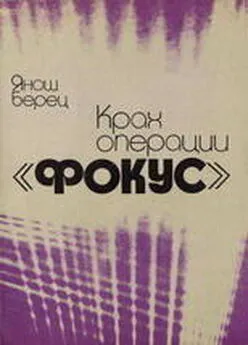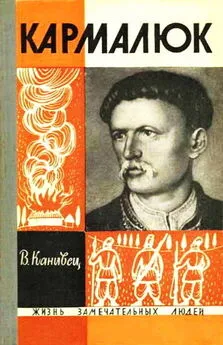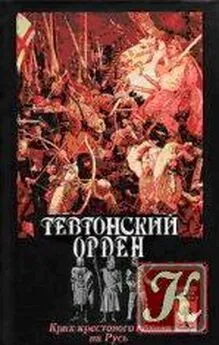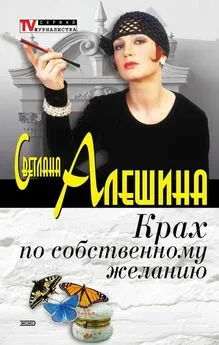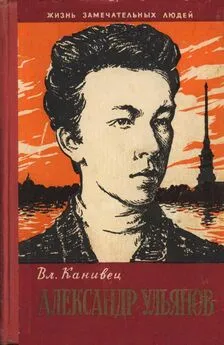Владимир Канивец - Крах диссидентки
- Название:Крах диссидентки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:5-265-00855-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Канивец - Крах диссидентки краткое содержание
Материалом для романа «Крах диссидентки» послужили впечатления о поездке писателя в Нью-Йорк в составе делегации, принимавшей участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН. Это осмысление сложных международных событий, острой идеологической борьбы.
Крах диссидентки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Кладбище — это страница истории села, которую когда-нибудь — через тысячи лет, — возможно, прочтут археологи, ибо старые могилы уже забыты, холмики их осели: ведь и гробы, словно зернышки, попавшие в жернова, перетерло, перемололо время. На тех провалившихся могилах пасли коров и коз, которые ухитрялись обгрызать, став на задние ноги и задрав свои чертячьи бороды, даже колючие кусты глода. Среди тех, отданных колючему глоду и ненасытным козам древних погребений, кое-где стояли полуистлевшие дубовые кресты — могилы предков — долгожителей села. Бабке Папчихе, что живет по соседству с Михаилом, уже сто шесть лет, так она каждое воскресенье, одевшись во все черное, с двумя посохами в руках, с узелком — гостинец покойникам, — идет, как сама говорит, в гости к своим родным. Арсений маленьким, когда бабка еще не была согнута в три погибели и ходила без посохов на кладбище, видел, как она садилась возле ветхого от дождей и снегов, от морозов, солнца и ветра большого, страшного — как тогда ему казалось — дубового креста, возле которого был уже не холмик, а ямка. Там, говорила Арсению мать, похоронен Папчихин дед, проживший сто семнадцать лет.
А с этой стороны, где теперь хоронили людей, кладбище было огорожено, на могилах стояли не только кресты, а и скромные памятники с фотографиями на фарфоре, металлические крашеные ограды. На каждом холмике миска и рюмка: если покойник вздумает появиться на этом свете, чтоб было из чего выпить и закусить. В стороне, над крутобоким оврагом, стоял железобетонный обелиск — перепилили столб высоковольтной линии, поставили верхнюю половину, выкрасив в черный цвет, обложили гранитными плитами, на которых выбиты имена погибших в Великой Отечественной войне. Фамилии отца Арсения, прошедшего всю войну от первого до последнего дня и закончившего ее недалеко от Берлина, тут не было. Но ее можно было бы выбить на камне — он умер не от старости, а от фронтовых ран. Арсений до сих пор хранит спичечный коробок, в который отец складывал мелкие, колючие, как репей, осколки, которые, не выдержав страшной боли нанесенных ими ран, хотя и железные, — вылезали из этих ран.
Участникам революции, гражданской войны, тем, кто устанавливал советскую власть, кто защищал ее, памятников не осталось. Может, люди не знали, чьи имена на них написать: одни погибли на фронте, другие — в партизанских отрядах, третьи убиты в селе, четвертые воевали у белых или в бандах. Но ведь у всех были матери, отцы, родственники. И на кладбище все словно бы уже равны, прощены за грехи самой своей смертью.
По могилам можно было проследить и за тем, как рос достаток сельчан. Сразу после войны они ставили на могилах вытесанные топором небольшие крестики. Позже — более высокие кресты и обелиски со звездами, а уж потом и памятники из нержавеющего металла, из камня. Видя эти изменения, Арсений думал о тех изменениях, которые происходили в душах людей. Выбравшись из послевоенной разрухи — все село было сожжено фашистами! — и обжившись, люди начали думать не только о том, как прожить, детей вырастить, но и о том, как воздать должное родителям, дедам. Прадедов, как водится, никто уже не знал; за ними для сельчан начиналась тайна того поколения, которое протянулось из вечности до их колыбели. Да разве только родителей почтить, воздать им должное? Нет, и себе тоже, ибо внимание к умершим, к тому непостижимому — говорят, несуществующему! — миру, куда они переселились, так же свойственно только человеку, как и его способность мыслить, смеяться.
На сельских кладбищах не оставляют места для родных. Умер, похоронили там, где было место. Настанет время прощаться с жизнью, скажем, жене, ей место найдется. Нечего, мол, приходить, смотреть и думать: «А вот тут и я буду лежать!» На том свете — то есть на этом кладбище! — еще не так много людей, найдут друг друга, если захотят.
На могиле отца, как на могиле солдата, Арсений поставил обелиск со звездой (изготовленный в Киеве), а на могиле матери железный крест. На обеих могилах, как это уже тогда делали в селе, были поставлены железные ограды.
— Вот тут, Алеша, похоронена твоя бабуся Мария, — сказал Арсений сыну, печально опустив голову и в мыслях увидев себя таким, как Алеша, когда он, бывало, держась за руку матери — страшно было! — приходил сюда на чьи-то похороны.
Алеше было два года, когда умерла мать Арсения, он не помнил ее, а потому только удивленно взглянул на отца: какая бабуся? Его бабуся не здесь, а в Яворине. «Вот и еще один обрыв цепи поколений. Алеша из моего рода, кроме меня, никого знать не будет», — думал Арсений, взяв сына за ручку и переходя между оградами к отцовой могиле. Отец умер, когда Алеши и на свете не было, а потому Арсений ему уже не сказал, что тут лежит его дед Андрей. Однако, вспомнив про коробок от спичек с осколками, спросил сына:
— Ты помнишь, я тебе показывал осколки?
— Те ржавые, колючие? — вспомнил Алеша, он просил отца отдать их ему, а тот пообещал отдать, когда он вырастет. — Ты мне их теперь отдашь?
— Вот тут похоронен твой дед Андрей, который принес в своем теле те осколки с войны, — так торжественно произнес Арсений, что и Алеша, проникшись его настроением, перестал общипывать листочки молочая и смотреть, как на оборванных местах выступает густое молочко, внимательно взглянул на отца.
Постояв, Арсений взял Алешу за руку и повел по старой (а вернее — древней!) части кладбища. Обходя могилы, остановился на краю крутого склона, откуда открывался далекий простор. Внизу сверкал Псел, дальше тянулись луга с одинокими вербами, озерцами, которые оставались после половодья и высыхали после страдной поры, оставляя аистам все, что успело вылупиться и вырасти в их теплых, неглубоких, заросших травою водах. Маленьким Арсений бегал туда руками ловить карасиков. Похлопает по густой шелковистой траве руками, несколько рыбок и вынырнут со дна, затрепещут испуганно на траве. Идите сюда, в мешочек.
— Хорошая речка? — любуясь Пслом, спросил Арсений сына.
— Хорошая, только кривая, — ответил Алеша.
Арсений усмехнулся: Псел действительно извивался как вьюн между крутым правым берегом и пологим левым.
— Покатаемся на лодке? — Алеша любил прогулки с отцом по реке. — Покатаемся?
— Я ключа не взял, — Арсений правда не подумал о том, что кладбище недалеко от Псла и можно было бы, прежде чем вернуться домой, покататься на лодке. — Давай искупаемся!
— Давай! — подпрыгнул от радости Алеша и побежал с горы вниз, крича: — Папа, догоняй меня! Догоняй!
5
Арсений хоть и сказал Степану Дмитриевичу, что готов поехать за Линой и ее девочкой, привезти их домой, тот не позвал его. От Лиды он узнал, что Лина с дочкой уже дома. Девочка, мол, бледная, слабенькая, но веселая, ходит по двору. Обидно стало Арсению, он почему-то ждал момента, когда поедет в больницу, увидит Лину и малышку. В тот раз его ночью подняли, а теперь — когда ребенок здоров! — и днем не нашли. Кто-то другой привез Лину с ребенком. И он почувствовал, что словно бы ревнует ее к этому другому. Невольно посмеялся в душе над собой: какое дело ему до Лины, до ее судьбы? Просто приятно смотреть на нее, как на каждую красивую женщину. Хотел сам пойти к Степану Дмитриевичу, да не смог преодолеть внутреннего сопротивления: подумают, что пришел еще раз услышать слова благодарности, какие он уже слышал и какие, казалось, были преувеличенными, а потому вызывали в его чуткой к незаслуженным похвалам душе неприятный осадок.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: