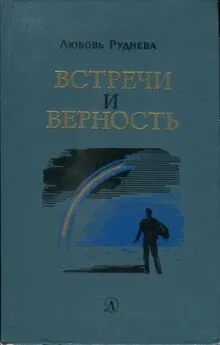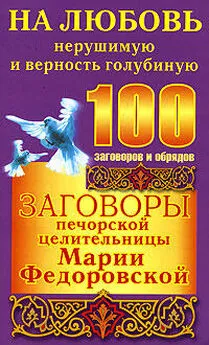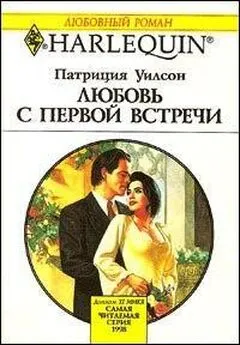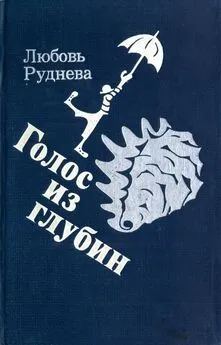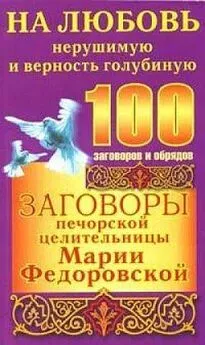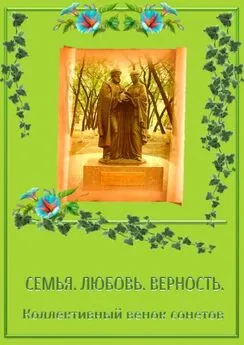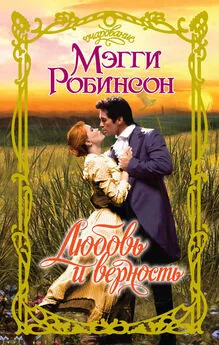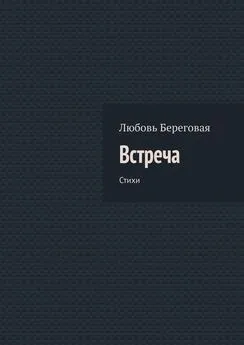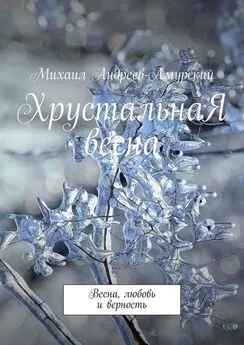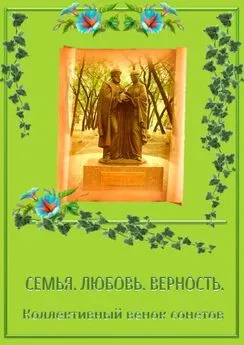Любовь Руднева - Встречи и верность
- Название:Встречи и верность
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Детская литература
- Год:1986
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Любовь Руднева - Встречи и верность краткое содержание
Встречи и верность - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Дожил я до противоположного берега. Вылез. Ничего на мне нет, кроме ран. Голый, только на шее висит маузер. Так и пошел в чем мать родила, ноги плохо гнутся — мускулы застыли. Потрогал себя рукой — вроде и не солянский я Хатьков, а дикарь пустынный. Хватило меня на несколько шагов, потом залег в кусты, уснул. Проспал минуты две, вскочил. Увидел таких же горемык, как я сам. Набралось нас человек сто, все из разных частей, незнакомые.
Шли, а колючий кустарник за нас цеплялся, будто и он участник казацкого заговора.
Мы молчали, торопились к своим, и ничего меня так не тянуло за душу, как голос Батурина:
«К Чапаеву, друзья! Сберегите его!»
А где Чапаев? Про это вслух разговору не было, но каждый тогда думал: вырвался комдив, иначе и быть не может. Вырвался, перемахнул волжанин Чапаев через Урал. Ведь пловец он, как и кавалерист, был отменный, а сноровки чертовской, это даже казаки в своей лютой ненависти признавали.
Торопились мы, думали, вот-вот встретим Чапаева, пойдем обратно — поднимать раненых, хоронить мертвых.
И только наверняка чувствовал я: уже нет в живых Батурина. Но и полумертвый не о себе кричал он — о нас, о Василии Ивановиче.
Последний в жизни Чапаева комиссар изрублен. Но вся степь его слыхала: и те пять тысяч, что легли в Лбищенске — в степь вошли кожей и костьми, и те, что спасены были Уралом.
И, умирая, просил Батурин о верности, и через это никогда нельзя его забыть.
БАТЫР
Накануне Алимджан Аскеров позвонил в гостиницу «Уральск» и с едва заметным акцентом сказал:
— Получил я, Глеб Тарасович, весточку из Солянки, от Хатькова, просил он повидаться с вами, пожалуйста, я готов. Завтра суббота, встретимся за Ханской рощей, как Урал с Чаганом, — побродим, поговорим.
В Ханской роще хозяйничал октябрь. От ветра, что дул от реки, от птичьего взлета и взмаха руки пробегали шорохи. Вспыхивали красным и желтым опаленные зноем верхушки деревьев. Глеб услышал быстрые шаги, будто всплески. Алимджан шел навстречу — смуглая кожа, яркий блеск глаз, прямая спина. Он крепко пожал руку и метнул быстрый взгляд из-под седоватых широких бровей.
— Большое путешествие вы задумали. Выйдем к реке, — сказал он без перехода, увлекая Глеба за собой.
Они бродили до ночи и говорили, иногда молчали. Алимджан первым нарушал молчание, тихо, почти про себя, напевал по-казахски. Наверное, и не замечал, как начиналась в нем песня, — давняя привычка думать напевая.
Он понял, как затронула Глеба судьба Батурина, но, видно, про встречу с комиссаром говорить ему было трудно, и только, когда возвращались они в Уральск и Глеб уже не мог видеть лица своего собеседника, Алимджан неожиданно заговорил о себе, о своем детстве:
— Я вырос на Бухарской стороне, в маленькой юрте — темной и грязной.
У нас нет обычая вешать на стену портреты, фотографии, но все же в нашей семье бережно хранилось одно нацарапанное несмелым карандашом изображение.
Мой дед жил на Арале, и там повстречал он ссыльного солдата-украинца. Солдат изрядно рисовал и научил юного казаха водить карандашом по бумаге.
Судя по сохранившемуся рисунку, дед мой увлекся и, кажется, заслужил одобрение солдата.
Мало-помалу научился мальчик говорить по-русски, подпевая горемыке-ссыльному, запомнил и украинские песни, позировал художнику и привязался к нему всей душой. Еще бы! Не избалован был казашонок добрым словом, а тут привалило ему счастье удивительной дружбы.
Уехал тот солдат из Кос-Арала, а кусочек его души бродил вместе с мальчишкой по степям.
Портрет, нарисованный дедом и, как я подозреваю, подправленный самим солдатом, был знаком мне подробно, как лицо матери: выпуклый большой лоб, грустные, глубоко сидящие глаза, свисающие усы.
Этот рисунок перешел ко мне от деда, и какой-то исковерканный запас слов, и еще песни, которые я не совсем понимал, но почему-то связывал со своей неважной долей.
Когда же весть о воюющем Чапаеве докатилась до Бухарской стороны, я поспешил к нему. Хотелось драться за свою долю, и я упрямо связывал образ Чапаева с великодушным солдатом из времен юности моего древнего прародителя.
Так попал я в кавалерийский эскадрон Домашкинского полка.
В августе 1919 года комиссар полка послал меня с пакетом в Лбищенск, к Павлу Батурину — комиссару дивизии.
Хоть и слыхал я, что казаки из станицы выброшены, — ехал с тяжелым чувством: ведь они встречали нас ненавистью, считали чем-то вроде псов шелудивых. Но, увидев, что станица и впрямь заполнена красноармейцами, я приободрился.
Разыскал избу, где жил Батурин, спешился и с разлету подскочил к человеку, неторопливо умывавшемуся во дворе.
Через плечо висело у него белое полотенце, он нагнулся над тазом, под его руками вспыхивали розовые и голубые пузыри, и я загляделся на пенящуюся воду, сбивчиво объясняя при этом, что мне нужен военком.
Пока я искал слова, человек распрямился, насухо вытер полотенцем лицо, и я увидел необычайное его сходство с портретом солдата. Я смущенно замолчал, а он засмеялся и сразу постарел — так много морщин легло вкруг его глаз и рта.
Лоб широкий с выпуклинами, пролысина, глаза под припухшими веками глубокие, с грустинкой, с умом, и усы — вислые, густые.
Я медленно соображал: неужели это приятель деда как ни в чем не бывало стоит передо мной?
«Ты, — говорю, — Сивче́нко?»
«Нет», — отвечает он и снова смеется.
«А почему так похож на Тараса, солдата-художника?» «Да откуда ты его знаешь?» — спрашивает меня смеющийся человек.
Я смутился и вдруг слышу:
«Я военком Батурин, мальчик».
Испугался я. И наверное, это было заметно. Батурин подошел ко мне, обнял, прижал к груди, и я запрокинул голову, чтобы лучше разглядеть его лицо. Вижу: в глазах у него что-то дрожит.
Потом доложил я по порядку, что прибыл из полка красноармеец Алимджан Аскеров, вручил пакет и добавил:
«Простите, что обознался».
Батурин озабоченно оглядел меня и сказал, что выеду я в полк завтра, а нынче вечером нужно прийти к нему.
Мы проговорили всю ночь. Он расспрашивал меня про деда, как водил он знакомство с ссыльным Тарасом, про отца и мою короткую жизнь пастушонка.
Мой дед умер, но я говорил о нем как о живом, потому что старик был добрым, гордился своей степной жизнью и объяснял, что останется жить в каждой былинке, и, когда я буду смотреть на парящую птицу, должен думать о нем.
Только не мог свыкнуться старик с тем, что казаки брезговали нами. Ведь кружки воды не дадут, но, бывало, купишь у казачки хлеб, она грязный грош положит за щеку — деньги казались ей чище, чем мы.
Дед был мудрым и памятливым. Как много историй знал он, таких древних, как сама степь, таких же длинных, как степь моя, таких же удивительных, освещенных солнцем.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: