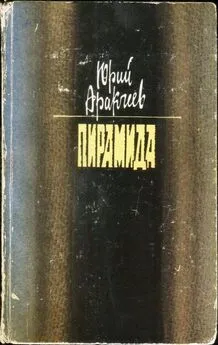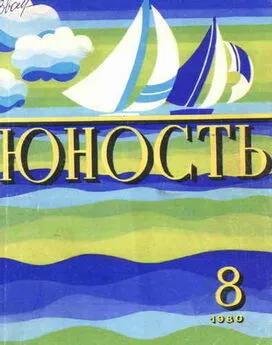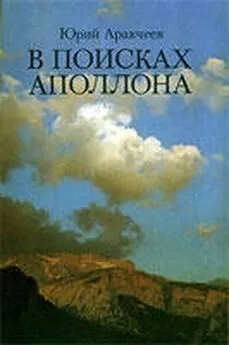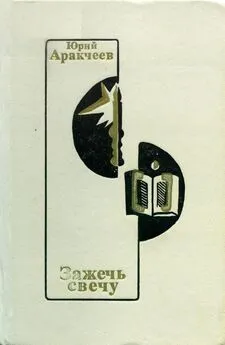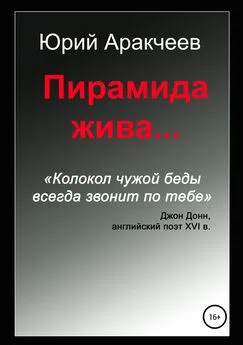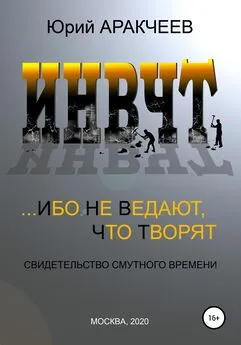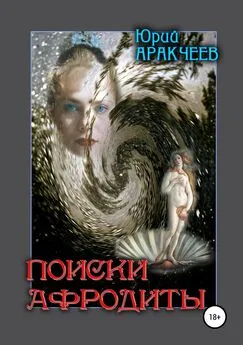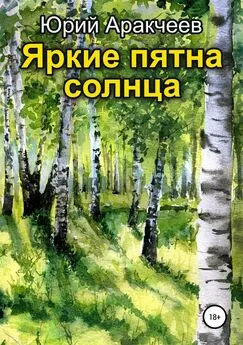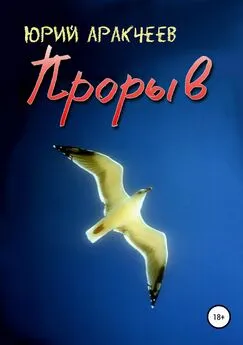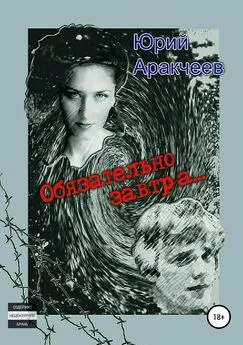Юрий Аракчеев - Пирамида
- Название:Пирамида
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:5-235-00331-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Аракчеев - Пирамида краткое содержание
Пирамида - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Расстались мы в самом искреннем взаимном расположении.
Опять и опять думал я, как же все непросто, как зависит судьба каждого от обстоятельств подчас случайных. Действительно «дел много» у всех и «работа нелегкая». Но ведь от работы проверявших «Дело» консультантов зависела судьба, жизнь человека. И если бы не тот самый звонок Румера Баринову, после которого заместитель Председателя Верховного суда согласился принять корреспондентов, если бы не благородный пыл корреспондентов и адвоката в поисках истины, если бы не компетентность и добрая воля — порядочность! — Сорокина в свое время, то… Можно, всегда, наверное, можно исправить упущения, ошибки, нейтрализовать злую волю или просто недобросовестность, равнодушие, нежелание работать отдельных людей. Но как же негасимо должен в таком случае гореть огонь порядочности, нравственности, человечности в других людях, как важно создать в обществе атмосферу, благоприятную для такого огня!.. Нельзя требовать безошибочной работы, мудрости, высокой квалификации от всех людей в обществе — ошибки, проявления злой воли будут всегда, в любом общественном механизме. Но как сделать так, чтобы возможность исправления ошибок была наибольшей? Как же создать «режим наибольшего благоприятствования» для людей нравственных, «общественных», духовно богатых?
«ЧТО» И «КАК»
Трудно начинать большую работу. И чем она важнее, чем значительнее для тебя, тем труднее. Из своего опыта я уже знал, что в таких случаях самое спасительное — «моцартовская» легкость. Нужно преодолеть страх начала, страх чрезмерной ответственности и, освободившись от этих оков, заговорить своим голосом.
Что такое вообще творчество? Много копий сломано в связи с этим понятием, главным образом теми, кто лишь в отдаленном приближении представляет, что это такое, но есть мысль — и я с ней согласен, — что творит не сам человек, не жалкое смертное существо, закованное в телесную оболочку, творит нечто более высокое посредством его. Человек-творец, таким образом, выступает лишь в роли приемника и передатчика одновременно… И следовательно, главное для того, чтобы начать творческий процесс, — это привести себя в соответствующее состояние. То есть освободиться от всего, что мешает приему и передаче. Талант же это и есть, наверное, высокое качество «приемно-передающего» устройства, чувствительность и совершенство его в обоих отношениях. И, кроме того, необходима способность приводить себя в соответствующее творческое состояние.
Но, для такой работы, какая предстояла мне, то есть для написания документальной повести, основанной на действительных событиях и документах, необходимо было не только настраиваться на «прием» и «передачу», а изучить весь огромный материал, который относился к делу, чтобы потом процесс «приема» и «передачи» шел без затруднений. Многое было прочитано, многое нужно еще читать, изучать — вплоть до Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, — но необходимо не только прочитать и изучить, а еще и осмыслить, переварить — с тем, чтобы уметь потом применить… И предстояло еще выбрать форму. Только замысел и самое начало работы было приятно, легко, интересно. А потом начались мучения.
Многие уже писали о страхе перед чистым листом бумаги (у художников — страх перед чистым холстом). В сущности, он чем-то напоминает страх перед открытым водным пространством, если необходимо по этому пространству плыть, или перед бездной под самолетом, в которую нужно парашютисту прыгать. Есть еще страх выступающего перед многочисленными слушателями, вот он, наверное, ближе всего. Ты должен знать, что сказать, ты должен знать, как сказать для того, чтобы тебя поняли и приняли. И ты должен не сбиться… Если, выступая, ты будешь думать не о том, что и как, а о впечатлении, которое ты производишь, то есть не о деле, а о себе, дело плохо. Неудачи плохих ораторов тем и обусловлены, что они слишком заняты собой… То же и с художниками. Конечно, художник выражает свой внутренний мир. Однако чем больше общего включает его личный мир, тем больший успех ему обеспечен. И это вполне понятно, потому что какое мне дело до переживаний кого бы то ни было, если этот «кто бы то ни было» ничем не похож на меня. Даже прекрасный передатчик может быть плохим творцом, если он никудышный приемник.
Короче говоря, нужно забыть о себе. Думать только о деле, о том, что ты хочешь сказать, какие мысли свои передать по этому поводу.
Это «что» было, пожалуй, ясно. Вопрос, как писать повесть, гораздо труднее. Легко себе представить, что материала было на самом деле не мало, а слишком много для написания небольшой газетной повести, пусть и с продолжениями. Одиннадцать томов самого дела. Длительность в четыре с половиной года. Четыре следствия и четыре процесса, каждый из которых заслуживает чуть ли не написания пьесы. Но главное — главное! — десятки людей-участников. А какие характеры, какие типы!
ТИПЫ
На кого ни посмотришь — дух захватывает. Возьмите Бойченко. Ведь это — талантливый, но безнравственный служитель. Манипулятор судьбами человеческими. Оставим в стороне конкретного Петра Даниловича, попробуем этот характер обобщить. Такие, как он, — беда нашего XX века, с его необъятными техническими возможностями, когда альтернативой использованию оружия массового уничтожения может быть только нравственный, моральный ограничитель. Безнравственный человек, допущенный к «кнопкам» пуска водородных бомб, может почти мгновенно погубить все человечество! Да, только нравственный ограничитель спасет: страх не поможет, в страхе человек, как известно, впадает в панику, а паника — плохой спаситель. Но из всех поступков и действий Бойченко в «Деле Клименкина» видно: нравственного ограничителя у него нет. Конечно, я преувеличиваю и обобщаю, но ведь тип остается типом, в какой ситуации он бы ни выступал, масштаб ситуации, с этой точки зрения, не имеет значения — более того: именно в столкновении мелком, когда человек не заботится о маскировке, он выступает особенно определенно и ярко. Но сколько же существует в природе людей, так же, как он, лишенных нравственного ограничителя, однако же обладающих большим, чем он, талантом! И, следовательно, возможностями.
Ну а судья Милосердова? О, этот тип особенно волновал меня — тип судьи, одержимой идеей. Вновь и вновь возвращался я в своих мыслях именно к этой героине, видя в ней наиболее трагическое воплощение отрицательных человеческих черт нашего времени. Отрицательные качества выступали в ней под видом положительных — вот в чем фокус! Верность определенной ИДЕЕ, очевидно, была для нее важнее верности ЗАКОНУ и ПРАВДЕ, но ведь именно это явление было причиной страшных бедствий, свалившихся на многострадальное человечество в XX просвещенном веке. Десятки миллионов убитых, вторая мировая война, развязанная, как и все войны, под флагом ИДЕИ… И сколько же жертв в «мирное» время — Китай, Камбоджа, например… Именно тогда и исчезало понятие совести, человечности как таковой. Человеческая, личная совесть заменялась групповой, национальной, клановой, «христианской» или какой-нибудь еще. Только не человеческой. Человечество состояло уже как бы не из людей, а из исполнителей ролей, представителей, элементов «своих» или «чужих». Закон существовал только для «своих», служил «своим» против «чужих». Но даже «своих» судьи судили по-разному, исходя из сиюминутных интересов ИДЕИ — закон оказывался вовсе не общим, не единым для всех. Разве это можно было назвать законом? «Закон — что дышло, как повернул, так и вышло»…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: