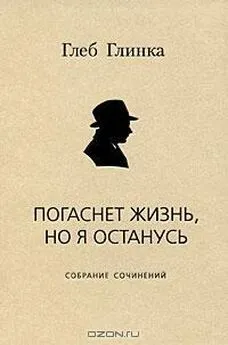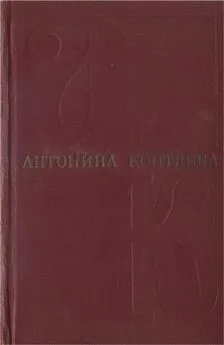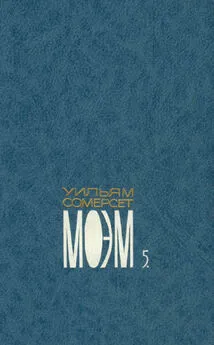Эжен Ионеско - Между жизнью и сновидением [Собрание сочинений: Пьесы. Роман. Эссе]
- Название:Между жизнью и сновидением [Собрание сочинений: Пьесы. Роман. Эссе]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Symposium (Симпозиум)
- Год:1999
- Город:СПб.:
- ISBN:5-89091-097-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эжен Ионеско - Между жизнью и сновидением [Собрание сочинений: Пьесы. Роман. Эссе] краткое содержание
В раздел «Театр» вошли знаменитые пьесы «Стулья», «Урок», «Жертвы долга» и др., ставшие золотым фондом театра абсурда.
Ионеско-прозаик представлен романом «Одинокий» в новом переводе и впервые переведенными на русский язык его «Сказками для тех, кому еще нет трех лет».
В раздел «Вокруг пьес» вошли фрагменты из книги «Между жизнью и сновидением», в которой Ионеско выступает как мемуарист и теоретик театра.
Между жизнью и сновидением [Собрание сочинений: Пьесы. Роман. Эссе] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— В «Амедее», например, действительно имеется пара. Но главное — что и несет идею пьесы — это труп. Все остальное — только история вокруг трупа, хотя и она имеет какое-то значение. Труп для меня — это вина, первородный грех. Труп, который увеличивается на глазах, — это время.
— Конечно, но вина существует не сама по себе, ее ощущает герой, и по отношению к ней проявляют себя они оба — одновременно давая ей возможность стать наглядной. Но если эта пара, уже немолодая, каких много в ваших пьесах, нужна только для того, чтобы дать жизнь образу, то использование ее есть просто средство, прием. Может быть, тут все глубже?
— Пара — это наш мир, это мужчина и женщина, Адам и Ева, две половины человечества, которые любят друг друга, которые все время вместе. Они устали друг друга любить, но и не любить тоже не могут, как и не могут жить друг без друга. То есть это не просто он и она, а еще и разъединенное человечество, которое силится соединиться, слиться.
— Значит, все происходит одновременно как бы в двух плоскостях: одна очень конкретная, бытовая — плоскость повседневных действий, болтовни, ссор, а другая — символическая, где обыденные поступки, тщательно воспроизведенные, приобретают универсальное, символическое значение.
— Надеюсь, что это так. Персонажи помогают воплотить символы благодаря тому, что эти люди более или менее «реальны»: кажется, будто они существуют на самом деле, будто мы встречаем их каждый день на улице, словом, они, если можно так выразиться, подлинные. Поэтому их повседневный быт подчеркивает или оттеняет по контрасту то, что повседневности не принадлежит, все странное, необычное или символическое. Символ тут надо понимать как образ, несущий некое значение.
— То есть персонажи помогают прояснить символы — иначе говоря, те образы, которые служат для вас отправной точкой?
— Персонажи важны для контраста. Они помогают высветить фантастическую сторону: противопоставляя реальное ирреальному, мы получаем оппозицию, которая есть одновременно и взаимодействие, — реализм помогает подчеркнуть фантастический аспект, и наоборот. Нечто похожее делает художник Бизантиос. Он абстракционист. Он всегда писал абстрактные картины, как я пишу абстрактные пьесы. Ведь «Лысая певица» — пьеса, в общем, абстрактная. И вдруг он придумал очень интересную вещь. В его картинах существует подвижный живой фон, с пучками света, вибрацией, — словом, целая абстрактная драма. Этот фон на самом деле и есть картина. Перед ним, как на авансцене, он помещает артишок, дерево, кувшинку и так далее. И этот реальный, или реалистический, или псевдореалистический предмет сообщает свою подлинность, свою силу абстрактному фону. Наверно, то же самое я инстинктивно проделал в «Стульях», где тоже есть абстрактное движение, вихрь стульев, а старик и старуха служат стержнем для умозрительной конструкции, для подвижной архитектуры, каковой всегда является пьеса. То же самое происходит и в «Амедее», где есть зримый, реальный труп и мнимое существование двух действующих лиц. <���…>
— Пока пьеса не поставлена, она существует только как факт литературы. Ее театральные достоинства еще не очевидны. Подлинную значимость она приобретает только на сцене, хотя всегда есть риск, что авторский замысел может быть искажен режиссером или исполнителями. Но об этих искажениях мы еще поговорим позже. А сейчас мне вспомнилось место из «Записок за и против», где вы рассказываете об огромном удивлении, которое испытали, впервые увидев, как в постановке Никола Батая оживают ваши персонажи…
— Да-да. Это правда необычайно странно — сознавать, что ты создал каких-то персонажей. Когда на моих глазах настоящие живые люди из плоти и крови учили мой текст и превращались в Пожарника, в Служанку, в Смитов и Мартинов, а позднее в Короля и Королеву или в Старика и Семирамиду, я очень удивлялся. Я до сих пор удивляюсь, хотя, казалось бы, уже привык. Поразительно видеть, как воплощается выдуманный мною мир. Мне всегда даже как-то страшновато на это смотреть. Возникает такое чувство, будто я влез на место Господа Бога. <���…>
— Когда вам, к примеру, режиссер заказывает пьесу…
— Мне не заказывают пьесы. У меня их просят. Мне повезло: на протяжении многих лет меня окружали друзья, у которых были небольшие театры. Это Серро, это Марсель Юовелье, это Моклер, это Польери, это Постек, который, как мне кажется, был моим лучшим режиссером, он и Моклер. Когда они узнавали, что я пишу пьесу, они стремились получить ее, причем как можно скорее. Поэтому мне приходилось торопиться.
— Скажите, общение с режиссерами, споры во время постановки помогали вам найти какие-то ходы или нет?
— Пожалуй, нет. Это звучит нескромно, но, по-моему, скорее они шли за мной, чем я за ними, и они не всегда поспевали, им было трудно принять мое видение театра, которое в те времена казалось диковатым. Поэтому в большинстве случаев у меня возникали конфликты с режиссерами. Особенно вначале. У них была, в общем, более реалистическая концепция театра, более логический подход. В ту пору они еще находились где-то на уровне Антуана [ *] 18 Имеется в виду Андре Антуан (1858–1943), французский режиссер, актер, теоретик театра, приверженец идей натурализма. Реформатор сценического искусства и принципов организации театрального дела. В 1887 г. основал «Свободный театр», на сцене которого впервые во Франции поставил пьесы Ибсена, Гауптмана, Толстого.
, несмотря на все, что уже было сделано в театре Дюлленом, Жуве, Питоевым [77] Шарль Дюллен (1885–1949), Луи Жуве (1887–1951), Жорж Питоев (1884–1939) — французские актеры и режиссеры, сторонники творческого и организационного обновления театра. Вместе с Гастоном Бати в 1926 г. создали союз четырех театров — так называемый «Картель».
. В литературе, живописи, музыке совершались поразительные эксперименты: сюрреализм, Пикассо, абстрактная живопись, новая музыка и так далее. Огромный рывок сделала психология. А театр отставал. Там по-прежнему царил традиционный реализм. Повинны в этом, с одной стороны, «театр бульваров», который продолжает существовать и сейчас, благополучно сочетая реализм с развлекательностью, а с другой — дидактически-назидательный театр воспитания. Для «театра бульваров» главное — нравиться. А мы не боимся не понравиться, пойти против вкусов публики. Всякое настоящее произведение агрессивно, иначе оно остается демагогическим или коммерческим, бульварной пьеской. Иногда нам вдруг удается понравиться. Но не потому, что мы к этому специально стремились. Мы не любим «уступок». Новое — всегда вызов. Без агрессии, без обновления в искусстве нет движения, нет жизни. Да, новизна — это агрессия. Обычные театры стремятся либо забавлять обывателя, либо поучать. Так продолжается и до сих пор, хотя назидательность понемногу из театра уходит.
Интервал:
Закладка:
![Обложка книги Эжен Ионеско - Между жизнью и сновидением [Собрание сочинений: Пьесы. Роман. Эссе]](/books/1089964/ezhen-ionesko-mezhdu-zhiznyu-i-snovideniem-sobranie.webp)