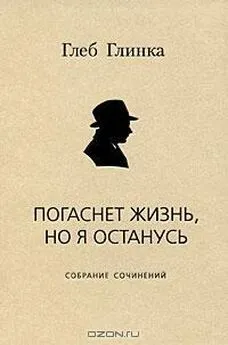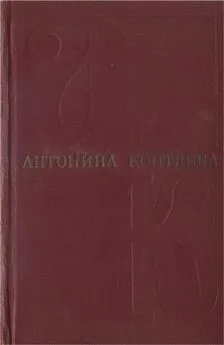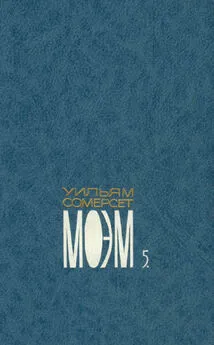Эжен Ионеско - Между жизнью и сновидением [Собрание сочинений: Пьесы. Роман. Эссе]
- Название:Между жизнью и сновидением [Собрание сочинений: Пьесы. Роман. Эссе]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Symposium (Симпозиум)
- Год:1999
- Город:СПб.:
- ISBN:5-89091-097-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эжен Ионеско - Между жизнью и сновидением [Собрание сочинений: Пьесы. Роман. Эссе] краткое содержание
В раздел «Театр» вошли знаменитые пьесы «Стулья», «Урок», «Жертвы долга» и др., ставшие золотым фондом театра абсурда.
Ионеско-прозаик представлен романом «Одинокий» в новом переводе и впервые переведенными на русский язык его «Сказками для тех, кому еще нет трех лет».
В раздел «Вокруг пьес» вошли фрагменты из книги «Между жизнью и сновидением», в которой Ионеско выступает как мемуарист и теоретик театра.
Между жизнью и сновидением [Собрание сочинений: Пьесы. Роман. Эссе] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Я сам точно не знаю. Можно придумать причины. Не в смысле «выдумать», а попробовать поискать. Наверно, мне просто захотелось выговориться. Побеседовать с кем-то один на один. Кому-то исповедаться. Когда пишут пьесу, ее пишут для множества людей сразу, для публики. А роман пишут — во всяком случае, я — для отдельного человека. Рассчитывая, естественно, что таких отдельных людей будет много. Каждый одинок, когда он пишет или читает. Каждый одинок — это и означает в каком-то смысле заглавие романа. Мне захотелось обратиться к одиноким, причем тоже с позиции одинокого. В общем, я стал писать роман потому, что проза, как мне представляется, это нечто более личное, более сокровенное, она больше соответствует состоянию одинокого человека. Не помню, говорил ли я вам, но мне давно кажется, что театр — вещь гораздо более грубая, чем роман, и уж тем более чем поэзия (но, к сожалению, я не поэт). Это вовсе не значит, что театр хуже, чем поэзия или проза. Он просто грубее — в том смысле, что там невозможны некоторые нюансы. Коллективный зритель не в состоянии их воспринять, поэтому приходится упрощать, огрублять какие-то вещи. Туг действие должно быть динамичным, никакие повторы, возвращения назад — равно как и забегания вперед — невозможны. Однако такие возвраты и сложные повороты естественны для определенной формы мышления, и только гибкая романная проза позволяет их передать. Театр, требуя упрощения, вынуждает к некоторой подтасовке. Проза тоньше, свободнее, ближе по форме к ходу потаенных мыслей. У кинематографа тоже есть важное преимущество перед театром — всемогущество камеры. Там зрители, сливаясь в зале в единое целое, остаются при этом одиночками. А в театре они полностью сплавляются воедино, поэтому о театре и говорят как о коллективном празднике. Вот почему я взялся за роман. По-моему, причины вполне убедительные, и я их не выдумал, я полусознательно, полубессознательно исходил из них, когда писал. Но парадокс в том, что, несмотря на все, о чем я сейчас говорил, я решил потом сделать из романа пьесу. <���…>
— Одинокий человек живет не только в своем одиночестве. Он живет в истории, в своей эпохе. И вы сами, до того как взялись за роман, пытались в дневниковой форме запечатлеть ход времени, передать ощущение утраты и дробления воспоминаний. Это были «Раскрошившиеся мысли». А в книге «Настоящее прошлое, прошлое настоящее» совмещение фрагментов из двух дневников — нынешнего и довоенного — создает эффект странной игры между прошлым и настоящим, воспоминаниями и свежими впечатлениями, историей и личным опытом. Что означала для вас такая перекличка эпох?
— Да я и сам уже не вполне понимаю, ведь книга вышла несколько лет назад. Наверно, мне хотелось продемонстрировать, что история повторяется, возвращается, показать, что сегодняшние тоталитарные режимы мало чем отличаются от тех, что были тридцать-сорок лет назад. Я уже говорил во время наших бесед, что не вижу большой разницы между тоталитаризмом левым и правым. Вчера в нацистской Германии, фашистской Италии, а сегодня в России или в Китае происходят одни и те же массовые действа, в которых участвуют десятки тысяч человек. Муссолини, Сталин или Мао — везде находится обожествляемый идол, которому истерически рукоплещет толпа. Священный кумир, почти бог. С той разницей, что идолы взывают к массам, а бог нет. Каждый из нас говорит с Богом поодиночке. Если решать проблему теологически, то вот оно, различие между Богом и Сатаной. Бог воспринимается индивидуально и нас делает индивидуальностями — братьями, да, но не похожими друг на друга, — а Сатана нас обезличивает. Во времена Гитлера людей обезличивали с помощью военной формы, а в Китае вообще вся страна обязана носить одинаковую одежду.
— Мне хочется вернуться к книге «Настоящее прошлое, прошлое настоящее». При параллельном чтении ваших двух дневников, довоенного и конца шестидесятых, бросается в глаза даже не столько повторение истории, сколько верность себе Эжена Ионеско. Из дневника в дневник переходят одни и те же видения, сны — вы пересказываете их без обработки, как есть, но они напоминают те, которые воплощены в вашем театре. Узнается и ваша способность удивляться, и даже манера описывать и называть то, что вас поражает или тревожит. Выясняется, например, что вы еще в сороковом году употребляли слово «носорог» применительно к людям — часто даже к друзьям, — которые заражались нацизмом. И хотя политика занимает в книге важное место, гораздо нагляднее здесь неизменность ваших реакций, постоянство образов, волнующих вас на экзистенциальном уровне. Сквозь эти записи проступают темы вашего творчества. И в этом смысле книга является своего рода ключом.
— Может быть, но так вышло случайно. Я действительно рассказываю там об очень важном для меня давнем переживании, которое больше не повторялось, сколько я ни старался его вернуть, и которое я пытаюсь воссоздать во многих своих пьесах, — о встрече со светом. Но в этой книге мне хотелось сказать и о другом: в отличие от героя моего романа, который держится в стороне от событий — что, наверно, и мне следовало бы делать, удивляясь издали тому, что творят люди, — я обеспокоен, поглощен, одержим современной политикой, и так было всегда. Мы живем на нескольких уровнях сознания. Я тоже прожил жизнь, отвлекаясь от самого важного, в тревогах, в политических страстях, хотя отлично сознавал, что политика не главное, а главное — проблема бытия. Я был слишком увлечен литературой, слишком остро воспринимал отзывы критиков, ликовал, когда они были хорошие, приходил в ярость, когда плохие, — а Бог свидетель, плохих было много! — и, как видите, меня это волнует до сих пор, раз я сейчас об этом говорю. Но где-то у меня всегда таилась мысль, как у моего героя в пьесе «Этот потрясающий бордель», что все это как бы не всерьез. И вот недавно, в семьдесят шестом году, я пережил очень важный, пожалуй даже решающий, момент, укрепивший меня в этой мысли.
— Что же произошло?
— Я был болен, мне делали операцию. В операционной, перед тем как мне дали наркоз, я подумал, что, возможно, умру, но мне было совершенно не страшно. Не знаю, буду ли я относиться к этому так же, когда придет время умирать по-настоящему, но тогда мной полностью овладела уверенность, что все, что я в жизни делал, все, что у меня позади, не имеет абсолютно никакого значения. Вся общественная сторона жизни исчезла. Все мои поступки, вся история мира превратились в прах. Одновременно возникло неприятное чувство, что и впереди у меня ничего нет. Я заснул, потом проснулся после операции, но это отношение к миру сохранялось у меня довольно долго. «Я жив. Что ж, хорошо», — думал я. Люди рассуждали о моем так называемом «творчестве», а мне казалось нелепым даже говорить об этом. Тем не менее я понимал: хотя «творчество» и не имеет никакой цены, но приходится им зарабатывать и надо пристраивать пьесы, одну дать Лавелли или Моклеру, другую в «Одеон», в «Театр де ла Билль». Просто теперь это нужно было только затем, чтобы прокормить себя и семью. История, политика тоже потеряли для меня всякий интерес, с тех пор как я почувствовал перед операцией, что прожил жизнь впустую и не могу унести с собой ничего. Я не умер. Выздоравливая, я жил на даче и провел там довольно счастливый месяц, потому что отрешился от всего, кроме красоты этого мира, и вновь наслаждался впечатлениями, каких не испытывал уже много-много лет. Вокруг была масса зелени, и я радовался, что мир так прекрасен: он казался прозрачным, словно утратил обычную плотность, непроницаемость, стал легким, необременительным, как видение, как мираж, который вот-вот исчезнет. И в самом деле, как я ни старался удержать это ощущение прозрачности, оно постепенно стало исчезать. Теперь я снова живу в плотном, непроницаемом мире, в мире общественном. Все потихоньку опять начинает казаться важным. Политика вновь стала политикой, история — историей, литература-литературой. Все снова обрело былую ценность или псевдоценность.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Эжен Ионеско - Между жизнью и сновидением [Собрание сочинений: Пьесы. Роман. Эссе]](/books/1089964/ezhen-ionesko-mezhdu-zhiznyu-i-snovideniem-sobranie.webp)