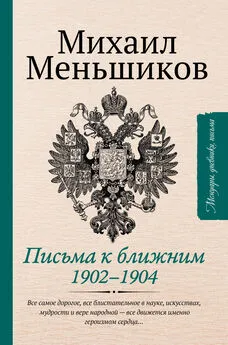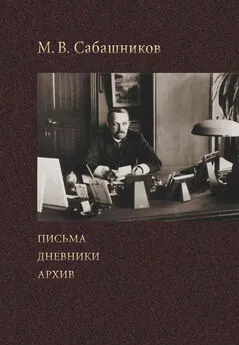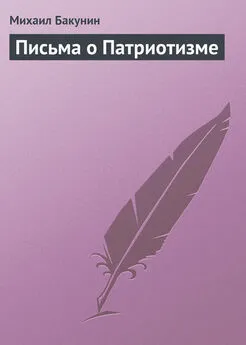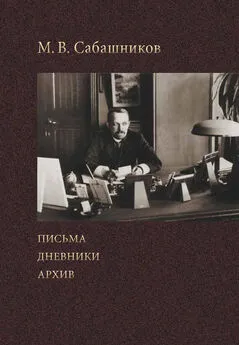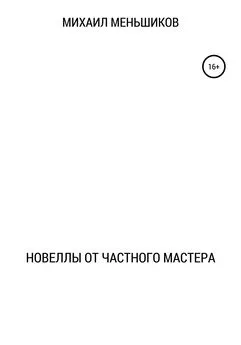Михаил Меньшиков - Письма к ближним
- Название:Письма к ближним
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2022
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-145459-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Меньшиков - Письма к ближним краткое содержание
Финансовая политика России, катастрофа употребления спиртного в стране, учеба в земских школах, университетах, двухсотлетие Санкт-Петербурга, государственное страхование, благотворительность, русская деревня, аристократия и народ, Русско-японская война – темы, которые раскрывал М.О. Меньшиков. А еще он писал о своих известных современниках – Л.Н. Толстом, Д.И. Менделееве, В.В. Верещагине, А.П. Чехове и многих других.
Искусный и самобытный голос автора для его читателей был тем незаменимым компасом, который делал их жизнь осмысленной, отвечая на жизненные вопросы, что волновали общество.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Письма к ближним - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Чтобы додуматься до всеобщего страхования, недостаточно было ума, непременно нужно было милосердие, иначе дело не подвинулось бы ни на вершок. Непременно нужно было кому-нибудь сильно заинтересоваться этой идеей, чтобы заинтересовать других, нужно было кому-нибудь не спать ночей, делать бесконечно сложные расчеты, обдумывать, взвешивать каждую мелочь. Теперь все это кажется просто, как придуманная хитрая машина, но, чтобы придумать ее и ощупью добраться до лучшего ее типа, необходимы были долгие волнения и тревоги. Не будемте же смотреть на обязательное страхование рабочих слишком свысока, не будемте говорить, что тут одна «пошлая проза» и один лишь «эгоистический расчет». Дай Бог нам побольше такой прозы. Немцы народ грубоватый и жестокий, но способны на удивительные порывы, и вечная им слава за то, что они первые серьезно занялись судьбою «меньших братьев». И англичане пробовали кое-что сделать в этом роде, и французы. «Шел священник – и прошел мимо, шел левит – и прошел мимо». Очевидно, ни у гордых англичан, ни у пылких французов не хватило чего-то – чего? Не ума, во всяком случае, а вот этого сосредоточенного милосердия, серьезной жалости к бедняку, способности непременно довести хорошее дело до конца.
Люди академической морали обыкновенно говорят: «Ах, зачем эта обязательность, зачем система? Разве добро может быть организовано? Оно – вдохновение; регулировать его – значит не иметь его вовсе. Не нужны никакие внешние меры, нужно одно: чтобы каждый из нас каждое мгновение чувствовал себя как бы на посту для спасения утопающих, чтобы каждый был готов протянуть руку по любому направлению, где есть горе человеческое». Я отвечу на это: – Прекрасно, но ведь этого нет, это идеал, о котором мы можем только мечтать. Для «безграничной любви» требуется коренное перерождение теперешней человеческой породы, почти полное преображение ее. Чтобы мы были так великодушны, так нравственно богаты, так уверены в Отце, подающем жизнь, – нужно прямо какое-то чудо, и совершится ли оно в веках и когда совершится – не нам знать. Теперь же подавляющее правило такое, что мы скупы, завистливы, безучастны к чужому горю, злорадны. Рассчитывать на нас беднякам, право, напрасно. Кроме случайных крох, падающих со стола нашего, – народу нечего ждать от нас помощи. Убедившись в этом, нужно устроить так, чтобы помощь шла от самого же народа, и вот тут сама собою выдвигается идея общего страхования. Здесь милосердия господского требуется не больше, чем сколько нужно, чтобы организовать это дело и провести его законодательным путем. Решительно никаких денежных жертв от богатых не требуется, – их все принесет сам народ.
Смешно думать, что государственное страхование понизит народную нравственность. Я твердо уверен в противном. Нравственность, т. е. желание помочь ближнему, много зависит от возможности это сделать. В «Новом времени» был приведен глубоко трогательный случай, как во время голода в деревне один зажиточный крестьянин заметил, что его сосед-бедняк таскает ночью у него солому на корм скоту. Богач не рассердился, а разжалобился. Он потихоньку, ничего не говоря, сам стал таскать свою солому к воротам соседа и оставлять там. Какая деликатность! Оба ни гу-гу, оба полны слишком священных чувств, чтобы выразить их громко, – и только уже летом, когда дела оправились, когда богачу нужны были позарез рабочие, – бедняк без зова пришел и даром отработал. Удивительна и молчаливая милостыня, и безмолвная благодарность за нее. Но, чтобы в этом трогательном случае мужик мог поделиться своею соломой, нужно, чтобы было чем поделиться. Для милосердия решительно необходимо, чтобы в народе был некоторый хотя бы маленький достаток. Вконец обнищавшее простонародье теряет и эту высшую радость жизни – милосердие; от крайней бедности народ становится жестоким. Припомните психологию людей, тонущих на разбитом корабле или спасающихся от пожара. Никогда не обнаруживается эгоизм в столь чудовищном безобразии. Люди душат друг друга, топчут насмерть, отрывают ухватившиеся за них руки. Точь-в-точь то же самое бывает и в эпохи общественной паники. На подонках жизни творятся самые черные ужасы, какие возможны. Вспомните, как зверски, как подло, без тени жалости дерутся насмерть несчастные герои Горького – именно там, где они устраиваются по-республикански. Нельзя допускать несчастных до последней ступени, – оттуда уже нет возврата. С народной массой, окончательно павшей, невозможны никакие социальные реформы, как нельзя чинить рубище, если оно расползается под иглой и не держит заплаты. Всем понятно, что учить, например, грамоте голодающих ребятишек – напрасный труд, что ребятишки эти не доживут до зрелого возраста или, загнанные голодом на труд домашнего животного, все перезабудут, что узнали в школе. Всем понятно также, что лечить народ нищий – напрасно, ибо он не может выдержать никакого курса лечения и, даже вылечившись, тотчас вновь заболевает. Чтобы благодетельные меры оказали действие, необходимо, чтобы они встретили поддержку в самом народе, в его достатке, в его физических средствах. Но то же самое и чувство милосердия. Чтобы оно действовало в народе, необходимо предварительно известное обеспечение, хоть вот та последняя горсть муки, которою вдова накормила пророка. От природы черствые и злые люди такими же остаются и в богатстве, но зато людям, от природы добрым, некоторый достаток дает опору для их сострадания. Я уверен, что, как только народ наш чуть-чуть подымется из нищеты, он сделается добрее. Снова зацветет в нем милосердие, а с ним и свобода, и вся красота духа, вытекающая из свободы.
Психология нищеты
«Милостивый государь, бедность не порок, – это истина… Но нищета, милостивый государь, нищета – порок-с. В бедности вы еще сохраняете свое благородство врожденных чувств, в нищете же никогда и никто. За нищету даже и не палкой выгоняют, а метлой выметают из компании человеческой, чтобы тем оскорбительнее было; и справедливо, ибо в нищете я первый сам готов оскорблять себя. И отсюда питейное!»
Мы, богатые классы, не вдумываемся в психологию нищеты, а она ужасна. Как ни старается г. Горький осветить бенгальскими огнями своих пролетариев, но при солнечном свете, в тех случаях, когда автору не изменяет талант, они отвратительны. Отвратительные не «коричневою рванью» своей грязной одежды, а такою же грязною рванью души, души вовсе не свободной, не гордой, не поэтической, а жалкой по своему рабству и справедливому презрению к себе. Глубочайшая ошибка думать, что эти растленные нищие в состоянии поддержать великие принципы общественности. Совсем напротив. Истинная свобода, солидарность, чувство законности, гений создаются лишь в обществе зажиточном, которому есть что терять, у которого есть определенная надежда на счастье. Здоровый гражданский быт сложился в древности при развитии общин и равномерном накоплении достатка в земледельческом классе. Как только вследствие войн пошло расслаиванье народа на патрициев и плебеев, на богачей и пролетариев, тотчас начала падать и народная свобода. Самая великая государственность, какую помнит мир, выродилась в ужасы Тиверия и Нерона.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: