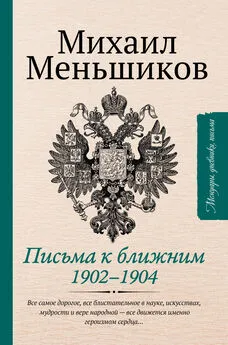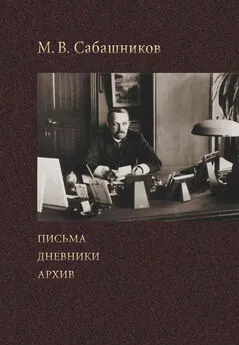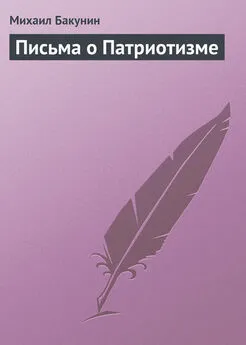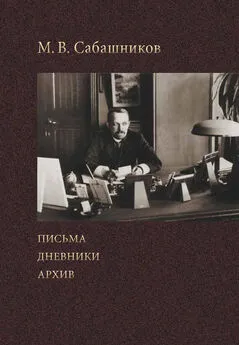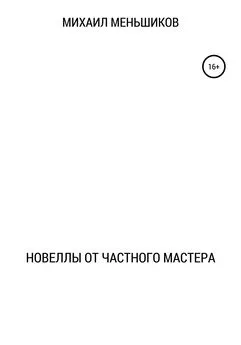Михаил Меньшиков - Письма к ближним
- Название:Письма к ближним
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2022
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-145459-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Меньшиков - Письма к ближним краткое содержание
Финансовая политика России, катастрофа употребления спиртного в стране, учеба в земских школах, университетах, двухсотлетие Санкт-Петербурга, государственное страхование, благотворительность, русская деревня, аристократия и народ, Русско-японская война – темы, которые раскрывал М.О. Меньшиков. А еще он писал о своих известных современниках – Л.Н. Толстом, Д.И. Менделееве, В.В. Верещагине, А.П. Чехове и многих других.
Искусный и самобытный голос автора для его читателей был тем незаменимым компасом, который делал их жизнь осмысленной, отвечая на жизненные вопросы, что волновали общество.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Письма к ближним - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я в старые годы немало писал о возвращении интеллигенции в деревню, о честной, героической работе среди заброшенного простонародья. Но не всем это дано, и не все, уходя в деревню, в состоянии внести в нее какую-нибудь силу. Большинство образованных людей, оторвавшись от города, в состоянии внести в народ только новое бессилье. В городе у человека есть заработок, положение, связи; в деревне он сам нищий и сам нуждается в помощи. Вот для таких горожан, прикованных к городу, не могущих порвать с ним, я советовал бы этот прекрасный выход – создавать в городах общества для помощи родной губернии, создавать землячества, на манер студенческих, только с более широкими целями. Скажу определеннее: отчего бы каждой из ста областей России не иметь в столицах и крупных центрах свои подворья, свой pied-à-terre, свою организацию, которая имела бы тесную связь с родиной. В Петербурге, наверно, среди десятка тысяч псковичей есть генералы, моряки, ученые, инженеры, писатели, купцы, священники, помещики, администраторы. Почему бы не объединиться всем этим псковичам, по примеру ярославцев и костромичей? Почему бы не составить общество для поддержки своих земляков и здесь, и там, на месте? Будь такое общество – псковичи-гимназисты не попадали бы в лапы разных хозяек меблированных комнат, несчастные деревенские девушки, ищущие места, не попадали бы – как это часто бывает – в дома терпимости, мужики-ходоки, уполномоченные от сельских сходов, не попадали бы с первых же шагов в участок. При своем подворье могло бы образоваться бюро для руководительства всеми этими, зашедшими точно в дремучий лес, земляками, бюро простых и необходимых справок и возможной помощи. Губерния в лице богатых и чиновных псковичей имела бы свое негласное, но серьезное представительство в столице, как бы свое консульство или посольство. Случился голодный год – общество псковичей могло бы испросить разрешение на сбор пожертвований, могло бы устроить не только складчину, но ряд концертов, лекций, художественных вечеров, и явилась бы возможность существенной поддержки. А главное, общество псковичей, хорошо знающее свою губернию, могло бы подать очень ценный и для правительства голос при обсуждении общегосударственных мер помощи. Может быть, оказалось бы при этом, что продавать семена по заготовительной цене осуществимо только для тех, у кого есть на что купить эти семена, а для большинства остальных нужна какая-нибудь иная мера. Трудно предсказать, что могло бы важного и дельного раскрыться при внимательном участии действительно сведущих лиц. Пусть подобное общество было бы совсем частным, благотворительным, но, широко взглянув на свое представительство в столице, оно могло бы быть чем-то вроде постоянно действующего комитета по делам данной области. Ведь и теперь же, приезжая в Питер, не только мужики разыскивают своих земляков, а дворяне – родственников, но и предводителю дворянства и губернатору приходится кое-когда вспомнить, что есть в Петербурге такой-то влиятельный земляк, что нужно съездить к такому-то, попросить такого-то. Теперь все это неорганизованно, все в хаосе. У одного есть «рука», а у тысячи людей – нет ее. Теперь даже те, кто мог бы чем-нибудь быть полезным своим землякам, не знает, как себя соединить с ними. Вы – пскович, человек богатый, живете в прекрасной квартире где-нибудь на Литейной. Вчера вы были в выигрыше, вам ничего не стоило бы вынуть десять рублей на какое-нибудь доброе и приятное вам дело. Но вы не знаете, что не дальше как сегодня в морозное туманное утро была выброшена из подвала вашего же дома целая семья псковичей, за невзнос десяти рублей, и ваши земляки, может быть, одного уезда с вами, с раскрытыми от ужаса глазами, в отчаянии смотрят на прохожих: что делать? Куда деваться в это морозное утро?
Я вовсе не отрицаю общей благотворительности и отнюдь не проповедую, что псковичи должны помогать только псковичам, ярославцы – ярославцам и т. п. Для истинно доброго сердца нет чужих – все земляки на этой круглой земле. Но ведь истинно добрых сердец не так уж много, и даже лучшие люди не всегда бывают истинно добрыми. Необходимо кроме высоких инстинктов использовать и средние, – любовь не только ко всему человечеству, но и к своим близким, – особенную любовь к своему родному. Наряду с общечеловеческими и общегосударственными учреждениями пусть бы действовали союзы и частные. Как маленькие клеточки великого тела, они необходимы не только дня себя, но и для этого последнего.
В чем секрет поразительной крепости западных, в особенности протестантских стран? Я думаю, что их процветание много зависит от чувства родины, которое там развито. Куда бы какой-нибудь Фридрих или Ульрих ни заехал – в Берлин, в Россию, в Америку, – он твердо помнит, что у него осталась где-нибудь в Тюрингии родная мыза, осталась родня, старики, знакомые. И как муравей, забежавший Бог весть куда, Фридрих тащит все заработанные талеры в свой Эзельдорф, под старую черепичную крышу, помнящую нашествие Наполеона. И тем еще немцы сильны, что куда бы ни заехали, всюду они встречают земляков, всюду у них есть ферейны – кружки людей, представляющих их родину. Все за одного, один за всех. Старая раздробленность феодального быта сослужила огромную службу стране, воспитав сильное чувство своей маленькой родины, потребность жить для нее и в ней. У нас же все это развито очень слабо. Громадное наше государство четыреста лет уже как окончательно раздавило уделы, смяло, сплющило свои клетки. Не потому ли всем в провинции скучно, не потому ли всем хочется в Петербург, в Москву? «В Москву! В Москву!» – кричат чеховские «сестры», и вместе с ними вся наша глушь. Но и в Москве им неимоверно скучно. И тут нет настоящей родины, нет того, о чем можно было бы думать с нежностью и что любить.
Юбилей печати
– Вы, – пишет мне некто, – готовитесь к триумфам 2-го января, вы собираетесь праздновать 200-летие печати. А знаете ли, что над всей печатью давно уже висит грозный обвинительный акт, убийственный, почти неотразимый? Этот обвинительный акт – общее нескрываемое пренебрежение образованных людей к печати и оттенок презрения к самим журналистам. Все читают газеты, но и все бранят их. «Газеты лгут» – вот ужасное и, к несчастью, столь справедливое убеждение публики. Газеты клевещут, газеты издеваются над дорогими интересами общества. Газеты продажны, газеты часто скучны и глупы. Вы хотели бы свободы слова, но, к несчастию, свобода эта уже дана. Послушайте, что говорит один знаменитый государственный деятель: «Любой уличный проходимец, любой болтун из непризнанных гениев, любой искатель гешефта может, имея свои или достав для наживы и спекуляции чужие деньги, основать газету, хотя бы большую, собрать около себя по первому кличу толпу писак, фельетонистов, готовых разглагольствовать о чем угодно, и штаб у него готов, и он может с завтрашнего дня стать в положение власти, судящей всех и каждого, действовать на министров и правителей, на искусство и литературу, на биржу и промышленность»… «Самые ничтожные люди, какой-нибудь бывший ростовщик, жид-фактор, газетный разносчик, участник банды червонных валетов, разорившийся содержатель рулетки – могут основать газету, привлечь талантливых сотрудников и пустить свое издание на рынок в качестве органа общественного мнения» («Московский сборник», стр. 63). Прочтите эту страшную статью о печати, как в ней много выхваченного прямо из жизни и глубоко справедливого! Значит, прежде чем праздновать юбилей, не худо бы вам, господа публицисты, подумать о своих грехах и так или иначе ответить на общественный приговор. Вы требуете свободы печати. Да заслужили ли вы ее? Убедили ли вы общество, что в руках ваших это будет рыцарский меч, а не нож разбойника? И пр., и пр.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: