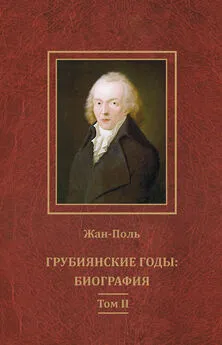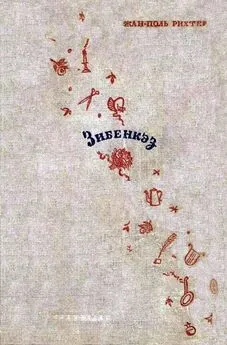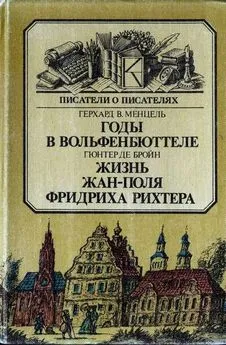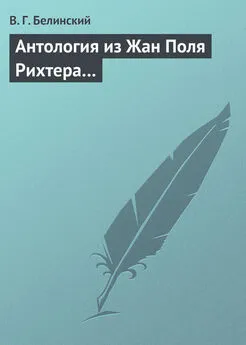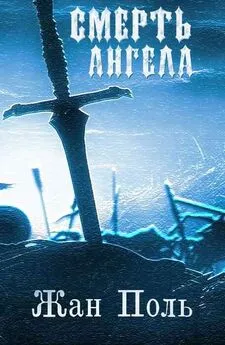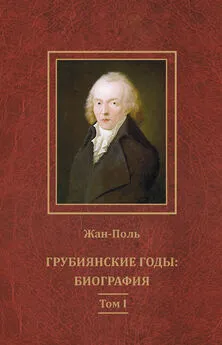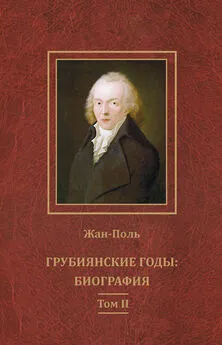Жан-Поль Рихтер - Грубиянские годы: биография. Том II
- Название:Грубиянские годы: биография. Том II
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Отто Райхль
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-3-87667-445-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жан-Поль Рихтер - Грубиянские годы: биография. Том II краткое содержание
Жан-Поль влиял и продолжает влиять на творчество современных немецкоязычных писателей (например, Арно Шмидта, который многому научился у него, Райнхарда Йиргля, швейцарца Петера Бикселя).
По мнению Женевьевы Эспань, специалиста по творчеству Жан-Поля, этого писателя нельзя отнести ни к одному из господствующих направлений того времени: ни к позднему Просвещению, ни к Веймарской классике, ни к романтизму. В любом случае не вызывает сомнений близость творчества Жан-Поля к литературному модерну».
Настоящее издание снабжено обширными комментариями, базирующимися на немецких академических изданиях, но в большой мере дополненными переводчиком.
Грубиянские годы: биография. Том II - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вульт едва мог дождаться сумерек, чтобы превратиться в сумеречную пяденицу и выпорхнуть из комнаты; Вальт также сильно рассчитывал на то, что станет одновременно сумеречным, ночным и дневным мотыльком – но только в духовном смысле и только дома.
О небо! И он действительно стал им, да еще в какой степени! Ибо когда Вульт вернулся домой очень поздно и не в лучшем настроении, Вальта он, напротив, застал именно в таком, то бишь в лучшем: энергично расхаживающим по комнате – помолодевшим, можно сказать, или даже впавшим в детство; так что флейтист спросил брата: «Готов поклясться, что кто-то сегодня составил тебе компанию, дома или еще где-то, – причем компанию наиприятнейшую, вот только я не знаю, кто это был. (Про себя он имел в виду Рафаэлу.) Или, может, магистр Дик написал нам наконец что-то хорошее?»
– Я весь вечер предавался воспоминаниям, – ответил Вальт. – Относящимся к детству: ведь ничего другого в моей жизни пока не было.
– Обучи меня этому искусству памяти, – попросил Вульт.
– Учителишка Вуц, созданный Ж.-П., занимался этим искусством не хуже, чем я, – столь замечательно поэт догадывается о самом сокровенном. Я бы хотел целыми днями говорить и слушать только о маленьких весенних цветочках этой первой поры жизни. В старости, когда человек вторично становится ребенком, он определенно вправе позволить себе вернуться к первому детству и долго смотреть назад, вглядываясь в утреннюю зарю жизни. Признаюсь, я могу помыслить высших существ – например, ангелов – только несколько ущербными в их блаженстве: из-за того, что они не имели детства; хотя, может быть, Господь не лишает ни одно существо какой-то детско-незабвенной поры, ведь даже сам Иисус был ребенком, когда родился. Разве, брат, чудная детская жизнь не состоит сплошь из радостей и надежд, и разве ранние дожди слез, проносящиеся над ней, не мимолетны?
– Ранние дожди и танцы старых баб… и так далее; то есть: беды в молодые годы и сладострастие в старости… и так далее. А я… попадаю ли я во временной промежуток, охваченный твоим versus memorialist – поинтересовался Вульт.
– Поверь, я всегда, и в Лейпциге и здесь, соотносил этот стишок лишь с теми днями, когда ты еще не убежал с музыкантом.
– Что ж, тогда вспомни снова в моем присутствии о твоем сегодняшнем вспоминании, – попросил Вульт. – А я, со своей стороны, тоже тебя поддержу – новыми подробностями.
– Каждая новая подробность из детства – это золотой дар! – обрадовался Вальт. – Но боюсь, кое-что из того, что я вспомнил, покажется тебе слишком детским. («Просто детским», – возразил Вульт.) Я сегодня выбрал два дня: самый короткий и самый длинный.
Первый день выпал на время адвента. Уже само это словосочетание, как и другое, «адвентская птица», кружит вокруг меня, словно ветерок. Зимой деревня прекрасна – и более, чем в другую пору, обозрима, потому что люди в ней больше времени проводят вместе. Возьми хоть понедельник. Уже целое воскресенье я заранее радовался тому, как пойду в понедельник в школу. Каждый ребенок должен был прийти в школу к семи утра, еще при свете звезд, неся свою свечечку; у нас с тобой она была красиво разрисованная, из воска. Я, наверное, с гордостью нес под мышкой книгу в формате in-quarto , еще несколько книжечек in-octavo и книжонку в формате in-sedez.
– Я помню, – подтвердил Вульт. – Ты тогда еще приносил для мамы булочки из трактира, хотя уже мог рассказать по-гречески про Марка и его тельца.
– И вот начался прекрасный мир пения и учебы в сладостном тепле школьной комнаты. Мы, старшие ученики, чувствовали себя высоко вознесенными над малышами; зато эти букварные карлики имели право – охотно им предоставленное – громко обращаться к учителю, а также, не соблюдая приличий, время от времени вставать и прохаживаться по классу.
Когда учитель вешал на стену специальную карту и мы особенно радовались тому, что на ней изображены и Хаслау, и Эльтерляйн, и другие окрестные деревни; или когда он начинал рассказывать о звездах и населял их сонмами живых существ, и я уже предвкушал, как вечером поведаю то же самое родителям и батракам; или когда он приказывал нам громко прочитать вслух: «…
– А помнишь, – встрял Вульт, – что слово Sakrament , как бы учитель ни старался меня от этого отучить, я всегда произносил с такой интонацией, будто ругаюсь: наподобие «Черт-возьми!» Но зато я был единственным, кто попытался внести в наши громкие совместные моления хоть какой-то музыкальный размер: три восьмых.
– Я бы с удовольствием подарил этому трудяге всяческие радости, если бы имел их сам! Часто, читая «Отче наш», я про себя молился, чтобы Господь позволил учителю, притаившемуся за пюпитром-рогатиной, поймать на эту рогатину какого-нибудь снегиря; и ты, конечно, помнишь, что всегда, когда у нас дома забивали скотину, я приносил ему миску с кусками мяса (ты же ограничивался горшочком супа). О, как я радовался каждый раз, думая о нашей с ним следующей встрече в школе!
– Кто находит, что я слишком жестко настроен по отношению к этому учителю, – сказал Вульт, – тому я просто напомню, как сей педагог однажды отобрал у меня только что раскуренную трубку и в той же школьной комнате – публично, у меня перед носом – выкурил ее сам. Можно ли считать образцовым для школьного учителя такой образ действий? Или – другой фортель: что учителя, ссылаясь на народную мудрость, запрещают нам, ученикам, ловить рыбу и ставить силки на птиц, словно князья, запрещающие подданным играть в азартные игры, – тогда как себе всё это позволяют? Хотел бы я услышать мнение по этому поводу – от представителей общественности, выступающих на страницах газет.
– О, чудесные первые годы в школе! Я тогда с радостью принимал всё, чему меня учили и что от меня требовали; даже самая маленькая школьная наука полнилась новшествами, тогда как теперь, на книжных ярмарках, подобные новшества можно встретить лишь изредка. А когда к нам наведывался священник с кустистыми бровями, в священническом одеянии, и затмевал своим блеском кандидата Шомакера, как император или римский папа – монарха какой-нибудь страны, которую он посетил: какой блаженный ужас мы испытывали! Как весомо падал каждый звук его басовитого голоса! Как хотелось всем нам когда-нибудь тоже достичь этого высочайшего ранга! Как каждое слово нашего Шомакера трижды скреплялось печатью слова, произнесенного высоким гостем!
Я думаю, человек уже потому в детстве бывает счастливее, чем в зрелые годы, что в эту раннюю пору легче найти или вообразить себе великого мужа; а великий муж, в существование коего ты поверил, – это единственное доступное нам предощущение небесного блаженства.
– Поэтому, – сказал Вульт, – я бы хотел быть ребенком: просто ради свойственной ему способности восторгаться, коей так приятно щекотать нервы и себе, и другим. Больше того: я бы охотно явился в мир как эмбрион с паучьими ручками, чтобы воззриться на повивальную бабку, как на новую Юнону Лудовизи. Блоха легко находит для себя слона; но когда человек становится старше, он в конце концов перестает восторгаться даже собаками. Однако должен тебе признаться, что я уже в то время сумел выдернуть несколько лучей из воротника-нимба у нашего ворчливого священника Гельбкёппеля. Дело в том, что я, как обычно, уронил книжку под школьную парту – с намерением нагнуться за ней и из-под парты увидеть смешное зрелище: фруктовую гирлянду башмаков, болтающихся под скамейками-виселицами; однако помимо них я увидел и крепко стоящие на земле повседневные сапоги Гельбкёппеля, а под распахнувшимся священническим одеянием – штаны, в которых он явно убирал сено после второго покоса; и тут же все великолепие верхней его половины в моих глазах утратило значимость: человек, по крайней мере апостол, должен и сам состоять, и одежду на себе иметь из одного куска – не бывает никаких полуапостольских дней, Вальт!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: