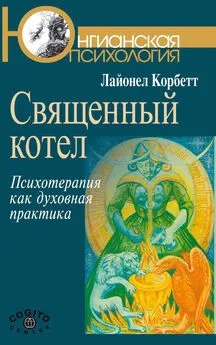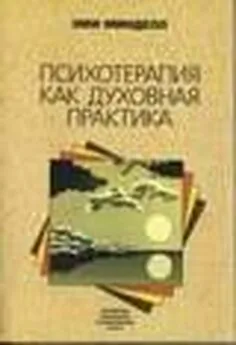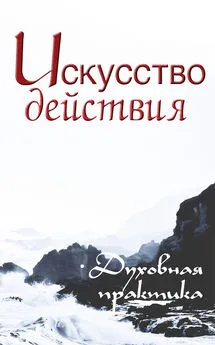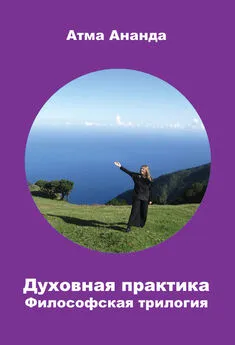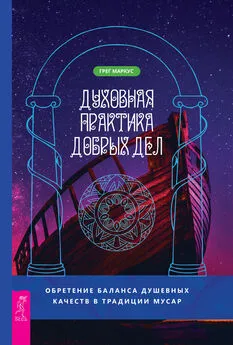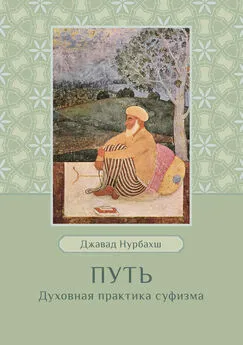Лайонел Корбетт - Священный котел. Психотерапия как духовная практика
- Название:Священный котел. Психотерапия как духовная практика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Когито-Центр
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-1-888602-51-7, 978-5-89353-429-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лайонел Корбетт - Священный котел. Психотерапия как духовная практика краткое содержание
Основная идея книги заключается в том, что процесс психотерапии является по-настоящему духовной работой как для терапевта, так и для пациента. Психика становится пространством выражения сакрального и формирует особое трансперсональное поле, внутри которого осуществляется терапевтическая работа. В этой книге описаны различные варианты того, как чувствительность к духовному становится важной составляющей практических аспектов психотерапии.
Священный котел. Психотерапия как духовная практика - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Многих клиницистов начинают волновать вопросы интеграции духовного измерения в психотерапию (Tan, 2003), однако слово интеграция подразумевает, что объединяются, сливаются две разные области. Действительно, психотерапия часто противопоставляется духовному руководству, потому что, с точки зрения традиционного теизма, у этих практик разные акценты (West, 2000). Однако я исхожу из мысли, что психотерапия изначально включает элемент духовного руководства, во всяком случае потенциально. Психика раскрывает сакральное, например, в форме нуминозного переживания, позволяя установить с ним связь. К тому же внутри психики находится образ или элемент божественного, выраженный в форме трансперсональной Самости. Мы можем считать Самостью целостность психики, она представляет собой что-то вроде духовной программы развития личности. Именно по всем этим причинам нам не стоит разделять психологию и духовность. Никакая проблема не может быть чисто психологической или чисто духовной, только наши условности и наш язык разделяют их. Психологическую жизнь можно отграничить от духовности, только если трактовать духовность слишком узко, в терминах той или иной традиции. Когда терапевт осознает, что находится на службе у души, его кабинет становится сакральным пространством, час протекает в сакральном времени, а сам процесс терапии превращается в ритуал в самом прекрасном значении этого слова.
Нет никакой необходимости привязывать психотерапевтическое понятие духовного наставничества к нормам определенной традиции. Например, в теистических кругах считается, что религиозная практика помогает личности развить более глубокие отношения с Богом, повысить осознание Бога или получить способность отдаваться Божьей воле – причем все это описывается в богословских терминах конкретной традиции (Benner, 2002) [93] Превосходный исторический обзор различных практик духовного руководства см. в: Kurtz, 1999.
. В рамках христианской традиции считается, что Святой Дух действует через отношения наставника и его подопечного. И этот подход работает, если оба принимают одну и ту же богословскую систему. Однако тот же подход не поможет, если богословские убеждения наставника не совпадают с индивидуальным переживанием сакрального у наставляемого. Суть переноса, особенно идеализированного переноса в отношении харизматичного наставника, заключается в том, что мнение наставника может влиять на подход другого человека к сакральному. И это далеко не всегда может привести того к его истинной духовности. Чтобы обойти эту трудность, терапевт должен быть восприимчивым к той форме духовности, которая возникает органически, сама по себе. Чтобы помочь личности найти смысл и цель жизни или понять спонтанные проявления трансперсональной психики, совсем не обязательно быть приверженцем той или иной теистической традиции.
В юнгианской традиции связь между личными и трансперсональными уровнями психики известна под названием «ось Эго – Самость». Для психотерапевтических целей считается, что это не однонаправленная система, а нечто вроде диалога. Связь с Самостью мы переживаем в форме снов, синхроничных событий, симптомов или значимых событий. Самость является важнейшей частью терапевтического процесса. Задача терапевта – помочь личности понять эти переживания, привлечь внимание к тому, что осталось за его пределами и порой даже подсказать правильную реакцию. Если Самость действительно является духовным принципом психики, то терапевтическая работа ничем не отличается от традиционного духовного наставничества, пытающегося привлечь внимание человека к тому, как Бог проявляет себя в его жизни (Barry, Connolly, 1982). Разница лишь в том, что терапевт не привязан к догмам и вероучениям, вроде идеи о том, что все мы – грешники, ждущие искупления. В контексте христианского духовного наставничества такие идеи задают особое направление работы, но терапевт не должен обращаться к ним, если только они не имеют особого значения для конкретного индивида. Стоит признать, что на работу терапевта действительно влияют его теоретические установки, однако это подразумевает лишь некоторые психологические, а не богословские или метафизические допущения.
Считается, что духовное руководство, в отличие от психотерапии, не связано с решением сложных эмоциональных проблем. Некоторые утверждают, что духовное руководство и психотерапия имеют фундаментальные различия и не стоит примешивать «психологию» в процесс духовного окормления (McNamara, 1975). Так или иначе, психологический материал кажется чем-то более осязаемым, чем духовная жизнь. Опасаются, что духовный учитель будет отвлекаться на психологические трудности и уделять меньше внимания «чисто духовному» материалу. Именно традиция, к которой принадлежит наставник, определяет, что считать духовным, а что – психологическим, светским. Другими словами, разграничение этих областей является попыткой закрепить определенное понимание духовного. Учения и догматы конкретной традиции указывают нам готовые пути переживания духовности. Теистический духовный наставник считает, что он помогает индивиду понять и углубить его отношения с Богом, в то время как духовный подход в психотерапии считает симптомы и сны зовом Самости. В обоих случаях мы признаем присутствие трансперсонального процесса, но духовно ориентированный терапевт не видит за этим некий образ, принятый в той или иной традиции. Важно, что мы принимаем проявления сакрального независимо от того, в какой бы форме они ни возникали. Сакральное переживание может принимать, а может и не принимать традиционные иудео-христианские формы; трансперсональные уровни психики автономны, или, как написано в Новом Завете: «Дух дышит, где хочет» (Ин, 3: 8). Дух свободен в своих действиях и проявлениях – никакое богословие ему не указ.
Пытаясь сохранить традиционное разграничение духовного руководства и психотерапии, Мэй (May, 1992) утверждает, что психотерапия делает акцент на мыслях и чувствах, а духовное руководство – на молитве, религиозных переживаниях и ощущении связи с Богом. Он отказывает эмоциям в духовности, хотя и признает, что в некоем широком смысле все человеческие переживания духовны.
Однако эмоциональная жизнь и отношения определяются аффективно окрашенными комплексами, у которых, по Юнгу, есть как человеческий уровень, так и трансперсональное, или архетипическое, ядро. В процессе психотерапии мы можем не только увидеть всю психодинамику эмоционального страдания, но и распознать архетипическую основу и ее роль в жизни личности. Таким образом, мы пытаемся прояснить отношение личности с трансперсональным измерением. И неважно, назовем мы это лечением или духовным руководством – не стоит привязываться к словам. Зачастую именно эмоциональное страдание открывает нашу духовность, и именно поэтому эмоционально хрупкие люди так часто обладают глубокой верой и личной духовностью. Разграничивая духовное наставничество и психотерапию, мы проводим мнимое различие между психикой и духом, которое существует лишь в языке и культурной картине мира. Например, сновидения, являющиеся квинтэссенцией психологического, могут содержать как личный, так и трансперсональный материал, а также могут быть важным источником духовного переживания [94] В иудаизме и христианстве считается, что божество может использовать сны как средство общения. Библия изобилует примерами сновидений, посланных Богом. Подобные сны описаны и в Талмуде; своими сновидениями были также вдохновлены св. Иоанн Златоуст, бл. Августин и св. Иероним. Однако позднее такие личности, как Мартин Лютер, начали клеймить сны как происки дьявола; они объявили Церковь единственным истинным толкователем слова Божьего, поэтому материал сновидений считался демонической иллюзией. Возможно, негативным отношением Церкви к сновидениям мы обязаны ошибке, сделанной Св. Иеронимом при переводе Библии: слово, означающее на иврите «колдовство», он перевел как «толкование сновидений». Поэтому в его классическом переводе Библии на латынь, сделанном в 382 г., фраза «не гадайте и не колдуйте» передана как «не гадайте и не истолковывайте сны» (Лев. 19: 26) (van de Castle, 1994). (В переводах на славянские языки такой ошибки не было совершено. Так, в синодальном переводе соответствующая фраза звучит следующим образом: «Не ворожите и не гадайте». – Прим. пер .)
. Работа со снами, таким образом, становится самостоятельной духовной практикой.
Интервал:
Закладка: