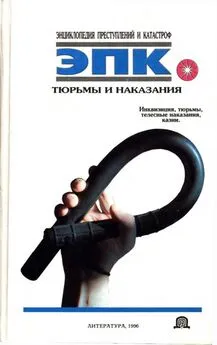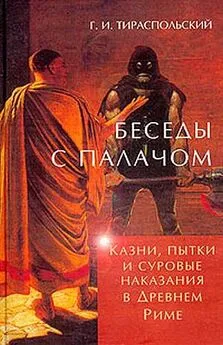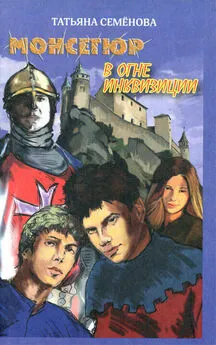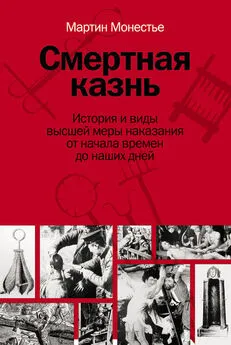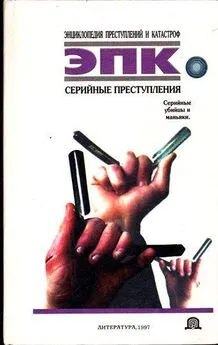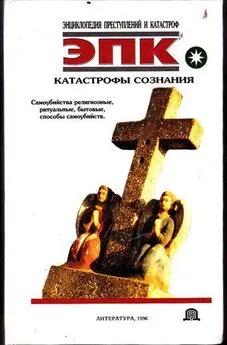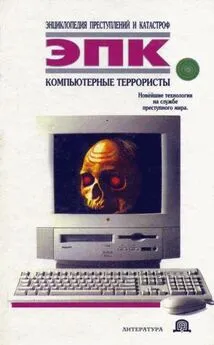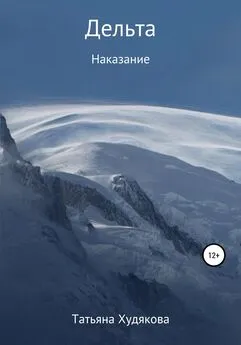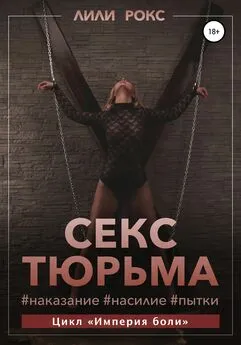Татьяна Ревяко - Тюрьмы и наказания: Инквизиция, тюрьмы, телесные наказания, казни
- Название:Тюрьмы и наказания: Инквизиция, тюрьмы, телесные наказания, казни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литература
- Год:1996
- Город:Мн.
- ISBN:985-6274-95-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Ревяко - Тюрьмы и наказания: Инквизиция, тюрьмы, телесные наказания, казни краткое содержание
Тюрьмы и наказания: Инквизиция, тюрьмы, телесные наказания, казни - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Понятно каждому, что Инквизиция не задумывалась прибегать к энергичным мерам, чтобы сломить упорство заключенного, который отказывался сознаться и отречься. Если надеялись достигнуть цели, играя на его семейной привязанности, то допускали к нему в камеру жену и детей, слезы и убеждения которых могли склонить его. После угроз прибегали к ласкам. Заключенного выводили из его смрадной тюрьмы и помещали в удобной комнате, где его хорошо кормили и где с ним обращались с видимой добротой в расчете, что его решимость ослабнет, колеблясь между надеждой и отчаянием. Искусные в уменье влиять на сердце человека, инквизиторы последовательно применяли все приемы, которые могли дать им победу в неравной борьбе против несчастного, выданного ему без всякой защиты. Одним из наиболее действенных приемов была медленная пытка бесконечными отсрочками разбора дела. Арестованный, который отказывался признаться или признания которого казались неполными, отсылался в свою камеру, и ему предоставлялось размышлять в уединении и в темноте. За исключением некоторых редких случаев, Инквизиция не дорожила временем: она могла ждать. После многих недель и месяцев наступал, наконец, день, когда заключенный просил выслушать его снова; если его ответы были опять неудовлетворительны, его снова запирали, и он мог, таким образом, целые годы и даже десятки лет терпеть предварительное заключение. Если только смерть не освобождала его, он почти всегда сдавался; все авторы единогласно признают благотворное, хотя и медленное, действие одиночного заключения. Только этим — иначе трудно понять — можно объяснить страшную медленность многих процессов Инквизиции. Часто бывало, что между первым допросом заключенного и окончательным решением протекало три, пять или даже десять лет; у нас даже есть примеры еще более долгих отсрочек. Бернальда, жена Гильема де Монтегю, была заключена в тюрьму в Тулузе в 1297 г. и в том же году принесла признание, но в действительности она была приговорена к тюрьме только на ауто 1310 г. Я уже упоминал о Гильеме Гаррике, которого привели в Каркассон для дачи дознания в 1321 г. после почти тридцатилетнего тюремного заключения. На аутодафе 1319 г. в Тулузе был осужден Гильем Салавер, который дал недостаточные признания в 1299 г. и новые в 1316 г.; он держался так стойко, что Бернар Ги, побежденный, наконец, его упорством, отпустил его, приказав ему только в виде епитимии носить кресты, приняв во внимание его двадцатилетнее заключение. На этом же ауто было осуждено десять несчастных, которые только что скончались в тюрьме; двое из них дали свои первые признания в 1305 г., один — в 1306, двое — в 1311 и один — в 1315 г. Это ужасный прием не практиковался ни одним другим судилищем. Гильем Салавер был одним из участников в беспорядках в Альби в 1299 г.; многих привлеченных по этому делу судили почти немедленно. Их осудили епископ Бернар де Кастене и каркассонский инквизитор Николай д’Аббевиль; но некоторым досталась более жестокая участь — заключение без всякого суда. Обратились к папе, и Климент V написал в 1310 г. епископу и инквизитору, назвав по имени десять несчастных, среди которых было несколько уважаемых граждан Альби, которые сидели в тюрьме в ожидании суда восемь лет и более; некоторые из них сидели прикованные на цепь в тесных и темных камерах. Папа приказал немедленно произвести над ними суд; его не послушали, и в следующей своей грамоте он упоминает, что несколько заключенных уже умерло, и снова повторяет свое приказание решить судьбу оставшихся в живых. Еще раз инквизитор, действовавший только по-своему, ослушался. В 1319 г. кроме Гильема Салавер, двое других — Гильем Кальвери и Изарн Колли — были выведены из темницы и отреклись от признаний, вызванных у них пытками. Кальвери и Салавер попали на ауто, торжественно совершенное в Тулузе в том же году. Мы не знаем, какому наказанию подвергся Колли, но в отчетах королевского комиссара Арнольда д’Ассали о конфискациях 1322–1323 гг. упоминается собственность некоего Isarnus Colli condemnatus, так что его конечная судьба не подлежит сомнению. На ауто 1319 г. выступают также имена двух граждан Корда Дуранда Буаса и Бернара Уврие (уже скончавшихся), признания которых помечены 1301 и 1300 гг.; несомненно, они принадлежали к тому же разряду несчастных, которым приходилось терзаться в безвыходном отчаянии десятки лет.
Когда хотели ускорить результаты, то ухудшали положение узника настолько, что оно становилось невыносимым. Как мы увидим ниже, тюрьмы Инквизиции были вообще невероятные конуры, но всегда была возможность, если это было в интересах инквизитора, сделать их еще более ужасными. Durus career etar eta vita — положение узника на цепи, полумертвого от голода, в яме без воздуха — считалось прекрасным средством добиться признания. Ниже мы увидим пример этого жестокого обращения, которому подвергся в 1263 г. один свидетель, когда старались уничтожить могущественный дом графов Фуа. Отмечали, что соответственное уменьшение количества пищи ослабляло волю настолько же, насколько и тело, и узник делался менее способным устоять перед угрозами смерти, сменяемыми обещаниями снисхождения. Достаточно сказать, что голод считался одним из дозволенных законом и особенно действенных средств, чтобы привести к соглашению свидетелей и обвиняемых. В 1306 г. после официального следствия папа Климент V объявил, что узники обыкновенно были вынуждены приносить признания целым рядом мук, которым их подвергали в тюрьме, — это лишение постели, лишение пищи и пытка.
Можно удивляться, что инквизиторы, имея в своем распоряжении так много принудительных средств, находили нужным прибегать к более грубым и простым орудиям пытки. Употребление кобылы и дыбы затрагивало к тому же так грубо не только основные принципы христианства, но и все традиции Церкви, что применение этих средств Инквизицией для распространения и восстановления веры представляет одну из самых печальных аномалий этой мрачной эпохи. Я в другом месте отметил уже, с какой твердостью Церковь восставала против пытки; в грубый XII в. Грациан заявляет, считая это принятым положение канонического права, что ни одно признание не должно быть вынуждаемо муками. Кроме того, за исключением вестготов, варвары, создавшие государства современной Европы, не знали пытки, и их законодательные системы развились независимо от этого чудовищного обычая. И только тогда, когда римские законы стали пользоваться уважением, и когда Латеранский собор 1215 г. запретил ордалии, законоведы стали чувствовать необходимость прибегнуть к пытке как к быстрому способу расследования. Более древние примеры, найденные мною, содержатся в Веронском кодексе 1228 г. и в Сицилийских Конституциях Фридриха 1231 г., но в обоих случаях пытка применялась с оговорками и после зрелого размышления. Даже сам Фридрих в своих жестоких эдиктах 1220 и 1239 гг. не упоминает о ней; согласно с Веронским декретом Луция III, он для людей, подозреваемых в ереси, предписывает обычную меру purgatorium canonicum. Но идея о пытке пошла быстрыми шагами в Италии. Когда в 1251 г. Иннокентий IV издал свою буллу Ad extirpanda, он одобрил применение пытки для раскрытия ереси. Однако вполне законное уважение к старинным предубеждениям не позволило Церкви уполномочить лично инквизиторов или их помощников применять пытку в отношении подозреваемых; было поручено светским властям принуждать всех захваченных еретиков признаться и выдать своих соумышленников, прибегая для этого к пыткам, которые должны были щадить жизнь и целость тела, «подобно тому, как воры и разбойники должны признаться в своих преступлениях и назвать своих соучастников». Оставшиеся в силе церковные каноны запрещали лицам духовного звания принимать в этом участие и даже присутствовать при пытке, так что, если увлеченный ревностью инквизитор приходил посмотреть на страдания своей жертвы, он должен был очиститься раньше, чем снова приступить к отправлению своих обязанностей. Это не соответствовало политике Инквизиции. Быть может, вне Италии, где пытка была еще почти неизвестна, Инквизиция встречала какие-либо затруднения в своем стремлении обеспечить себе в этом содействие государственных чиновников; она всегда и повсюду жаловалась на усложнение судопроизводства, которое нарушало полную тайну, необходимую для ее действий. Так, в 1256 г. четыре года спустя после буллы Иннокентия IV, Александр IV лицемерно устранил затруднение, дав инквизиторам и их помощникам право взаимно отпускать друг другу грехи и взаимно условиться относительно разрешения за «неправильности». Это разрешение, неоднократно подтверждаемое, рассматривалось как устраняющее всякое препятствие: отныне непосредственно сам инквизитор и его помощники могли подвергать подозреваемого пытке. В Неаполе, где Инквизиция была слабо организована, до конца XIII в. она употребляла в качестве заплечных мастеров государственных чиновников, в других местах ими являлись сами инквизиторы и их помощники. Даже в самом Неаполе в 1305 г. брат Томасо д’Аверса употреблял самые дикие пытки в отношении францискианских спиритуалов, а когда он увидел, что этими мерами нельзя довести их до самообвинения, то он прибег к гениальному средству: он в течение нескольких дней не давал есть одному из самых молодых братьев, а затем дал ему изрядное количество крепкого вина; когда несчастный опьянел, то было уже нетрудно заставить его признаться, что и он, и его сорок товарищей были все еретиками.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: