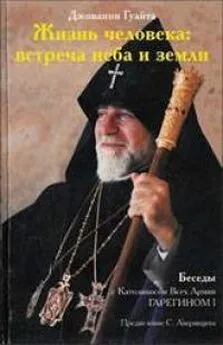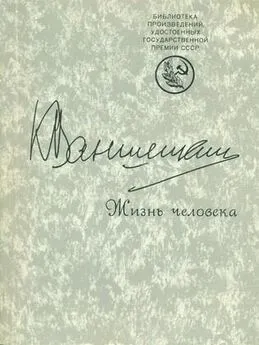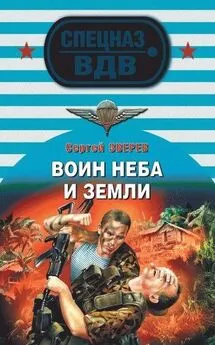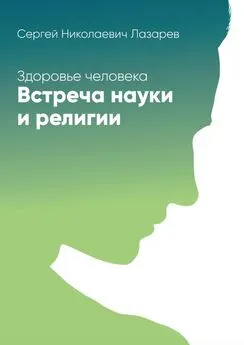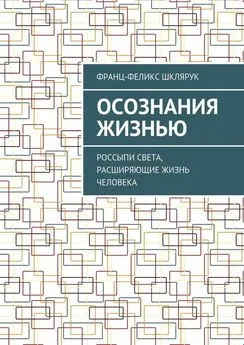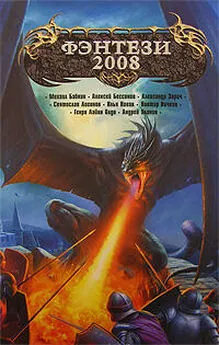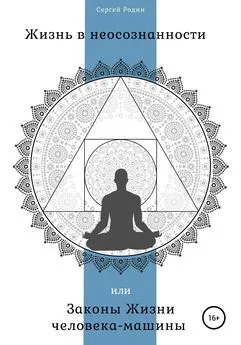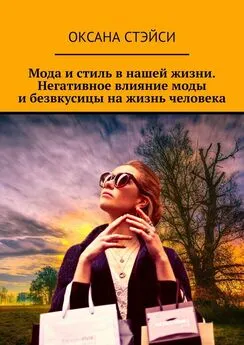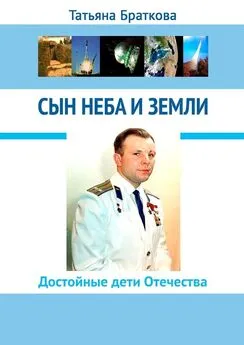Гуайта Джованни - Жизнь человека: встреча неба и земли
- Название:Жизнь человека: встреча неба и земли
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ФАМ
- Год:1999
- Город:Москва
- ISBN:5-89831-005-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Гуайта Джованни - Жизнь человека: встреча неба и земли краткое содержание
В беседах с Католикосом Всех Армян Гарегином I автор касается самых различных проблем: веры и неверия, счастья и страдания, власти и авторитета, места и роли в Церкви мирян, женщин и молодежи, проблем любви и семьи, целомудрия, сексуальной жизни, гомосексуализма, справедливости, равенства, биоэтики и многого другого.
Широкий спектр затронутых вопросов может быть интересен всем, и верующим, и неверующим, и христианам, и представителям других религий... Ответы Гарегина I поражают своей глубиной, открытостью и оптимизмом. По мере чтения книги они, подобно разноцветным мозаичным камешкам, образуют цельную картину личного опыта и духовности христианина, глубоко укорененного в многовековом опыте своей Церкви. Ответам Гарегина свойственна яркая образность и поэтичность, особенно, когда он касается таких тем, как любовь, страдание, крест.
Книга обращена ко всем, кто пытается найти ответы на трудные вопросы сегодняшнего времени.
Жизнь человека: встреча неба и земли - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Есть еще два направления, без которых чисто богословские собеседования, касающиеся догматики, не приведут к конкретным результатам. Я имею в виду духовный и социальный аспекты. Вы говорите о духовности. Действительно, если в экуменических контактах мы будем игнорировать чувство принадлежности одному Христу, не будем постоянно искать пути для укрепления наших духовных связей, молясь за других и вместе с другими, тогда экуменизм станет простым занятием, связанным с теоретическими исследованиями, которые могут быть осуществлены — и, без сомнения, гораздо лучше — многими научными институтами.
Другое направление экуменизма, о котором говорится так же мало, заключается в конкретном выражении экуменического духа, его внедрении в повседневную жизнь. Я все более убеждаюсь, что если нет общего дела, затрагивающего реальную жизнь людей, мы вновь впадем в искушение разделения на духовное и материальное, что идет вразрез с духом Христа и против подлинного богословия.
Я думаю, что экуменизм должен рассматривать как одно целое все три аспекта христианской жизни: koinonia, или аспект духовного общения, kerigma, или проповедь, и diakonia, то есть служение. Мы часто говорим о koinonia, о духовном общении с Богом и с другими людьми. Но в основе этого общения лежит не только некое чувство или идея, но образ жизни, выражающийся в действии и в служении. Евангелие показывает нам, что в жизни Христа молитва, проповедь и служение — неразрывно связаны. И экуменическое движение должно обрести эти три измерения: духовное общение, проповедь и служение. Только переплетение этих трех составляющих христианской жизни может сделать экуменизм здоровым и жизнеспособным и сегодня, и завтра.
Наконец, я глубоко убежден, что несмотря на то, что сегодня мы разделены, Единая Церковь, Церковь Христова существует во всех Церквах. Она в моей Церкви, в Вашей, во многих других... Мы должны вновь обрести чувство нашей общей принадлежности к Единой Церкви, которым обладали Отцы в эпоху, когда уже существовали Церкви Александрии, Антиохии, Рима и т. д., но при этом все считали себя чадами одной и той же Церкви Христовой.
Проблема в том, чтобы вновь обрести и возродить это единство на основе того главного, что способствовало ему в первые века, и рассеять туман, сгущавшийся вокруг него в течение двух тысячелетий.
ГЛАВА X. СТРАДАНИЕ
Страдание и избрание
Ваше Святейшество, Армения — очень древняя страна с долгим и славным прошлым, но в огромной книге ее истории много страниц, наполненных страданием. Армения всегда сражалась с недружелюбными соседями, которые нападали, грабили и разрушали. Она пережила господство самых разных народов: римлян, парфян, арабов, турок, татар, русских... Как говорит историк Гиббон, Армения с самого начала своей истории была театром непрекращающихся военных действий. Не раз вы переживали чудовищный опыт геноцида, горечь депортации и жизни в диаспоре, раздел страны... В уходящем столетии армяне, живущие на своей исторической родине, семьдесят лет провели под игом коммунистического режима.
Наконец, постоянным элементом вашей истории являются природные катастрофы, в первую очередь, землетрясения.
Короче говоря, в истории Армении всегда было много боли. Как отразилась эта страдальческая судьба на вашей культуре и на вашем национальном характере?
Пережитые нами страдания не могли не отразиться на нашем менталитете, на нашем национальном бытии. Они оставили определенный след в армянской культуре, и, возможно, наиболее очевидный проявляется в той меланхолии, которой особенно отмечены наша музыка и литература, столь богатые элегиями и плачами.
Но у этого явления есть и оборотная сторона. Страдание вызвало у армян особенную реакцию, не имеющую ничего общего с покорностью и пассивностью; ее можно назвать упорством, выдержкой и непреклонностью. В связи с этими чертами нашего характера и наших качеств, обусловленных пережитым опытом, мне вспоминаются слова из Послания святого апостола Павла к римлянам: «...Хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда» (Рим 5, 3-4). Действительно, страдания, пережитые армянами на протяжении их истории, были для них испытанием, в некотором смысле вызовом, на который они отвечали не просто мужеством и стойкостью, но преодолевали их с удивительной творческой мощью. Эту национальную особенность не раз признавали и подчеркивали в разные времена наши составители хроник, а также иностранцы.
К этим соображениям я хотел бы добавить еще одно замечание. Страдание часто рассматривалось армянскими и зарубежными историками как явление, настолько преобладающее в нашей истории, что даже само имя Армении стало неотделимым от него. Богослов-литургист Арчдейл Кинг сказал, что «синонимом армянской историографии является мартирология». Французский академик Даниель-Ропс, говоря в своей истории Церкви о наших мучениках, использует выражение «залитая кровью Армения», но тут же добавляет «живая». Я думаю, что оба эти эпитета дают точное определение: страдание придало нашему народу силы не подчиниться смерти и сохранить себя. Так что, как бы парадоксально это ни было, страдание во многом способствовало развитию творческого начала нашего народа.
Возвращаясь к нашей литературе, я хотел бы заметить, что именно поэтому наряду с упомянутыми мною многочисленными элегиями выделяется и такой крупный литературный жанр, как героический эпос.
Пережитый опыт гонений, геноцида и рассеяния сближает вашу историю с историей еврейского народа. Для еврейского народа эта страдальческая судьба неразрывно связана с избранием Божиим.
Видят ли армяне в своей судьбе трагический фатализм, приговор Всевышнего? Или особая судьба армянского народа приводит его к мысли о богоизбранности?
Я думаю, что в психологии нашего народа нет чувства богоизбранности. Конечно, исторические факты сближают нашу судьбу с судьбой еврейского народа. Но трагические события армянской истории обусловлены главным образом геополитическими факторами, географическим расположением нашей страны, которая, находясь на перекрестке великих держав древности, всегда использовалась как государство-буфер.
Отчасти причиной преследований, которым мы подвергались, была наша христианская вера. Наши соседи не были христианами и, понимая, что стойкость народа обусловлена верой, пытались уничтожить этот источник национальной идентичности и непреклонности. Так было всегда, начиная с нашествия маздеистов из сассанидского Ирана и кончая событиями нашего века, такими, как геноцид. Действительно, геноцид был хорошо организованной попыткой уничтожить нашу национальную христианскую идентичность внутри турецкого государства, которое стремилось к созданию мусульманской пантюркской империи. К этому необходимо добавить, что некоторые христианские державы, в которых царил колониальный дух, действовали так же, пытаясь ассимилировать наш народ или подчинить его своему абсолютному господству, посягая при этом на независимость нашей Церкви. Я имею в виду определенную политику Византии, попытки крестоносцев и даже некоторое отношение к нам Российской Империи. Но, возвращаясь к Вашему вопросу, я хочу сказать, что идеи богоизбранности, представления о себе как об избранном народе нет ни в нашей литературе, ни в нашей культуре.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: